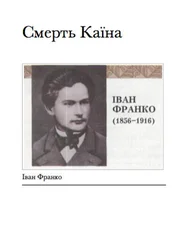Он с испугом начал оглядывать камеру, как всполошившаяся белка. Сорвался, когда мы еще с паном оба лежали, умылся, убрал свою постель, уселся на ней в углу и не шелохнется, как завороженный.
— А что, ты голоден? — спрашиваю я его. Молчит, только еще больше скорчился.
— А вчера ты что-нибудь ел? — спрашивает пан.
— Да, вчера, перед тем как жандарм должен был меня уводить, жена войта дала мне немного борща да кусок хлеба.
— Ага, теперь ясно! — улыбнулся пан.
Он дал ему поесть — порядочный кусок хлеба и вчерашнюю котлету. Бедняга даже задрожал. Хотел было поблагодарить, но лишь слезы навернулись у него на глазах.
Мальчик оказался тихий, послушный, ни тени самовосхваления, до разговоров неохочий, а когда попросишь его что-нибудь сделать, срывался, как искра. Было во всем его поведении что-то естественное, крестьянское. Если нечего было делать а какая у нас там, в тюремной камере, работа! — любил он сидеть молча в уголке, согнувшись, обхватив руками колени и опершись о них подбородком, только одни глаза его поблескивали из темного утла, как у любопытной мышки.
— Ну, так расскажи нам, какой же это ты страшный грабеж совершил, что жандарм грозил тебе за него виселицей? — спросил его однажды паи, когда видно стало, что хлопец уже немного успокоился и освоился.
— Ой, пан, — сказал Иоська и затрясся всем телом, — долго о том рассказывать, а мало что слушать. Очень это глупая история.
— Ну, ну, рассказывай, послушаем. Ничего умнее мы тут не придумаем, можно и глупую историю послушать.
— Рос я у Мошки, арендатора, в Смерекове, — начал Иоська. — сначала играл я с его детьми и называл Мошку татой [25] Тато — по-украински отец.
, а Мошчиху — мамой. Я думал, что они мне родственники. Но вскоре я заметил, что Мошка справляет своим детям красивые бекеши, а Мошчиха каждую пятницу дает им белые рубашечки, а я в это время хожу грязный и оборванный. Когда мне исполнилось семь лет, мне велели пасти гусей, чтоб они не шли в потраву. Мошчиха не спрашивала, холодно ли, жарко ли, а гнала меня из дому на выгон и при этом есть давала все меньше и меньше. Терпел я голод, не раз плакал на выгоне, но это ничего не помогало. Сельские хлопцы относились ко мне лучше. Давали мне хлeба, сыра, принимали в свои игры. Я привык к ним, а там начал им помогать присматривать за гусями. Был я для своих лет сильным и ловким, и сельские хозяйки начали сами доверять мне гусей, а потом телят, когда их дети должны были итти в школу. За это я получал от них хлеб, горячую еду, а по праздникам не раз и пару крейцеров.
Мошчиха была очень скупа и радовалась, что я дома не просил есть. Но когда дети Мошки доведались, что я ем крестьянскую пищу, прозвали меня трефняком [26] Трефняк — у верующих евреев человек, потребляющий трефную пищу, то есть пищу, запрещенную религиозными установлениями (например свинину).
и начали меня дразнить, а дальше и сторониться от меня. Поначалу это меня не трогало, но вскоре я очень остро почувствовал их неприязнь.
Мошка нанял для своих сыновей бельфера [27] Бельфер (евр.) — домашний учитель.
, чтоб учить их читать и писать. Это было зимой, и у меня было свободное время. Но когда я к ним подошел, чтобы тоже учиться, мальчики начали кричать, толкать меня и щипать и наконец с плачем заявили матери, что вместе с трефняком учиться не будут. Сама, вижу, Мошчиха подговорила их к этому, уж очень меня эта ведьма ненавидела, хоть и не знаю, за что. И вот, только дети подняли крик, прибежала она и выгнала меня из комнаты, приговаривая, что наука-де не для меня, что они люди бедные и им не на что держать бельферов для нищего. Заплакал я, но что было делать? Пойду бывало в село, играю с сельскими ребятами или приглядываюсь, как старшие чинят возы, сани или другой хозяйственный инвентарь. Не раз целой гурьбой бегали мы к кузнецу; его кузница стояла на краю села, и целыми часами присматривался я там к работе. А так как был я сильнее остальных хлопцев, то кузнец частенько просил меня раздувать мех, или бить молотом, или точило крутить. Как же я был тогда счастлив! Как горячо я хотел, уж если наука не для меня, научиться хоть какому-нибудь ремеслу!
С наступлением весны я возвращался на пастбище, к гусям и телятам, которых Мошка скупал по окрестным селам и, подержав немного, отвозил во Львов на продажу. Смерековское пастбище просторное, местами поросшее кустарником, и бегать мне приходилось мало. Сяжу себе бывало где-нибудь на пригорке, наточу ножик и начинаю строгать, долбить, вырезывать из дерева разные вещи: сначала маленькие лесенки, плуги и бороны, а потом клетки, ветряные и водяные мельницы.
Читать дальше