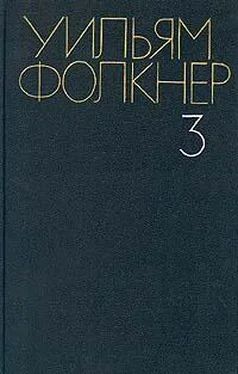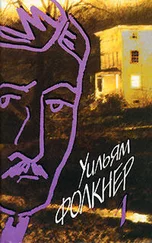И вот, поставив между коленями свое двуствольное курковое ружье, что лишь на двенадцать лет моложе его самого, он смотрит, как уходят назад, исчезают с глаз последние царапинки и следы человечьи: хибары, вырубки, бесформенные лоскутки полей, где еще год назад была заросль, а теперь оголенные стебли хлопчатника стоят почти так же высоко и густо, как прежде тростники, — словно человеку для победы над чащобой пришлось ей подражать гущиною своих насаждений. По обоим берегам пошла торжественно тянуться глушь, знакомая, былая, памятная, — сплетенье кустарника и тростника, куда не углубиться даже глазу дальше десяти шагов, высокореющая мощная стена дубов, стираксов, ясеней, орешника, не знавшая еще иного топора, кроме охотничьего, не славшая еще доселе эха, отзвука иному машинному шуму, кроме шума шлепающих плицами старых пароходов и рокота таких же вот моторных катеров с охотниками, едущими в глубь леса на неделю, на две потому, что там сохранилась еще дебрь. Ее еще осталось все ж немного, пусть и в двухстах уже милях от Джефферсона; а когда-то была в тридцати. На его глазах она не то чтоб побеждалась и уничтожалась — скорее отступала в себя, как исполнившая назначенье, пережившая свое время; отступала на юг по этой дельтовидной (остроугольною вершиной вниз) пойменной равнине меж холмами и Рекой, и теперь остаток чащи как бы собран и ненадолго удержан цельным сгустком огромно-вековой непроницаемой дремучести на южном, концевом клинышке Поймы.
За два часа до темноты подплыли к прошлогоднему своему лагерному месту.
— Посиди, дядя Айк, под деревом там, — сказал Легейт. — Сухое место вряд ли сыщешь, так хоть где меньше каплет. Мы помоложе, управимся сами.
Но он не стал присаживаться, отдыхать. Усталости еще не было. Она придет позже. «А может, и вовсе не придет », — мелькнула надежда, как всякий раз мелькала в первые минуты вот уже пять или шесть ноябрей. «Может, утром сразу и на номер встану». Но нет, он знает, что не выйдет завтра на охоту, даже если сядет сейчас где посуше, вняв совету и праздно дожидаясь, покуда поставят палатки и сготовят ужин. И причина будет даже не в усталости, а в том, что он не уснет сегодня и будет под густой храп и под шелест дождя бессонно и тихо лежать на койке, как всегда в первую ночь в лагере; тихо и мирно лежать, не сожалея и не раздражаясь и говоря себе успокоительно, что не так уж много у него осталось этих первых лагерных ночей, чтобы тратить их на сон.
В своем дождевике он распоряжается выгрузкой палаток, постелей, походной плиты, провианта, мяса на потребу людям и собакам до свежины. Он отрядил двух негров за дровами, и, пока возводят и крепят большую палатку, у него, под его началом, уже поставлена малая кухонная, разожжена плита, варится ужин. Затем, в первых сумерках, он переправляется в лодке на тот берег, где ждут лошади, фыркая и пятясь от воды. Рука его берет поводья, и ничем больше, как негромким голосом и стариковской рукой, он сводит лошадей в Реку; видны лишь плывущие рядом с лодкой головы, и точно впрямь эта легкая рука одна их держит над водой; и доплывшие до береговой отмели лошади ложатся, тяжело дыша, вздрагивая и кося в сумраке зрачком, и та же слабосилая рука и спокойный голос подымают их поочередно на прыжок с плеском и оскальзываньем — вверх на берег.
Вот и ужин готов. Дневной свет уже угас и только зыбкою прослойкой задержался, пойман между плесом Реки и дождем. Он выпивает свой стаканчик виски с водой и, стоя под тентом палатки во взметанной ногами грязи, говорит молитву над кусками жареной свинины, мягкими горячими комоватыми лепешками, бобами, патокой и кофе, над жестяными тарелками, кружками, консервными банкам — над привезенной сюда городской едой, — и вслед за ним все накрывают снова головы.
— Выедай, ребята, дочиста, — говорит он. — Чтоб утром кончить все привезенное мясо. Веселей тогда пойдет охота — придется добывать свежее. Я начинал шестьдесят лет назад, охотился со старым генералом Компсоном, майором де Спейном, с дедом Роса и дедом Уилла Легейта. Мы привозили свиной бок да говяжий окорок — больше домашнего мяса майор де Спейн не допускал в свой лагерь. Причем не в первый ужин и завтрак их съедали, а берегли к концу охоты, когда с души станет воротить от оленины, енотов и медвежатины.
— Я думал, дядя Айк сейчас скажет, что то мясо брали для собак, — говорит Легейт, не переставая жевать. — Но это я спутал. Когда собакам приедались оленьи потроха, для них каждый вечер настреливали индюшек диких.
Читать дальше