Но как бы там ни было, К. решил поехать теперь; в последнее время он, помимо прочих малоприятных вещей, обнаружил у себя какое-то слабодушие, какое-то почти неудержимое стремление потакать всем своим желаниям, — ну, что ж, по крайней мере в данном случае этот недостаток послужит благой цели.
Он подошел к окну, чтобы немного собраться с мыслями, потом сразу же приказал унести еду и отправил посыльного к фрау Грубах, чтобы тот сообщил о его отъезде и принес его саквояж, в который фрау Грубах должна была уложить то, что сочтет нужным; затем он дал господину Дерзье ряд деловых поручений на время своего отсутствия (в этот раз почти не рассердившись на уже ставшую привычной невежливую манеру господина Дерзье выслушивать поручения глядя в сторону, так, словно он и сам прекрасно знает, что он должен делать, и эту дачу поручений рассматривает только как церемонию) и, наконец, отправился к директору. Когда он попросил директора предоставить ему двухдневный отпуск, поскольку ему нужно съездить к матери, тот, естественно, спросил, не заболела ли мать К.
— Нет, — сказал К. без каких-либо дальнейших разъяснений.
Он стоял посреди кабинета, заложив руки за спину, и напряженно размышлял, наморщив лоб. Не слишком ли он поторопился с этими приготовлениями к отъезду? Не лучше ли было бы ему остаться здесь? Зачем он туда едет? Или он хочет поехать туда просто из сентиментальности? И из-за этой сентиментальности, может быть, упустит здесь что-то важное, какую-то возможность вмешаться, которая может представиться в любой день и в любой час, особенно теперь, когда процесс, похоже, уже неделями не движется и почти ничего определенного о нем не слышно? И не испугает ли он к тому же старую женщину, чего он, естественно, не желает, но что очень легко может произойти помимо его желания, поскольку сейчас многое происходит помимо его желания, а мать его вовсе не зовет? Раньше в письмах кузена регулярно повторялись настойчивые приглашения матери, а теперь — нет, и уже давно. То есть он ехал туда не ради матери, это было ясно. Но если он ехал туда ради каких-то собственных надежд, то тогда он полный дурак, и окончательное отчаяние будет ему там наградой за его глупость. Однако все эти сомнения были словно бы не его собственные, их словно бы пытались внушить ему какие-то посторонние люди, и, буквально очнувшись, он остался при своем решении ехать. Директор, который в это время случайно или, что было более вероятно, из особой деликатности по отношению к К. отвлекся, склонившись над газетой, теперь тоже поднял глаза, встал, подал К. руку и, не задавая более никаких вопросов, пожелал ему удачной поездки.
Затем К. еще подождал посыльного, расхаживая вдоль и поперек по кабинету, отделался от заместителя директора, почти ничего ему не отвечая, когда тот несколько раз заходил осведомляться о причине отъезда К., и, получив, наконец, свой саквояж, сразу же поспешил вниз к заранее вызванному экипажу. В последний момент, когда К. уже сбегал с лестницы, наверху появился клерк Покатульрих с недописанным письмом в руке, по поводу которого он, очевидно, хотел получить от К. какие-то указания. К. на ходу отмахнулся от него, но этот туго соображавший большеголовый блондинчик неверно истолковал жест К. и опасными для жизни прыжками помчался, взмахивая своим листком, вдогонку за К. Последний был настолько этим раздосадован, что когда Покатульрих уже на ступенях крыльца догнал его, К. отнял у него письмо и разорвал в клочки. Оглянувшись уже из пролетки, К. увидел, что Покатульрих, по-видимому, все еще не осознававший своей ошибки, стоял на том же месте и смотрел вслед отъезжающему экипажу, а рядом с ним швейцар натягивал, низко надвигая на лоб, фуражку. Это означало, что К. все еще был одним из высших чиновников банка, и если бы он захотел это отрицать, швейцар бы его опроверг. А мать, несмотря на все возражения, считала его даже директором банка, причем уже не один год. В ее глазах он не мог упасть, как бы много он ни потерял во мнении прочих. Быть может, это было хорошим предзнаменованием — как раз перед своим отбытием убедиться в том, что он все еще чиновник, который имеет связи даже с судом, и может отнять и без всяких объяснений разорвать письмо, и руки у него после этого не отсохнут. [23]
…Впрочем, сделать то, что он больше всего хотел бы сделать, закатить этому Покатульриху пару звонких оплеух по его бледным круглым щекам — он не мог. Но с другой стороны, это было, конечно, очень хорошо, потому что К. ненавидел Покатульриха, и не только Покатульриха, но и Лобноместера, и Трубанера. Ему казалось, что он ненавидит их с давних пор; хотя впервые он обратил на них внимание при их появлении в комнате фрейлейн Бюрстнер, но его ненависть была старше. И в последнее время К. почти страдал от этой ненависти, потому что не мог ее удовлетворить; к ним было очень трудно подступиться, в данный момент они были самыми низшими чиновниками, причем совершенно ничтожными, не способными продвинуться по службе — а если и способными, то лишь механически, с течением лет, но и то медленнее, чем кто бы то ни было, — и поэтому ставить им палки в колеса было почти невозможно, никакая чужой рукой вставленная палка не повредила бы больше, чем глупость Покатульриха, лень Лобноместера и отвратительная лакейская скромность Трубанера. Единственное, что можно было против них предпринять, это организовать их увольнение; добиться этого было бы даже очень просто, нескольких слов К., сказанных директору, было бы достаточно, но на это К. не мог решиться. Может быть, он сделал бы это, если бы заместитель директора, отдававший явное или тайное предпочтение всему, что К. ненавидел, вступился за этих троих, но для данного случая заместитель директора, как ни странно, сделал исключение и хотел того же, что и К.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
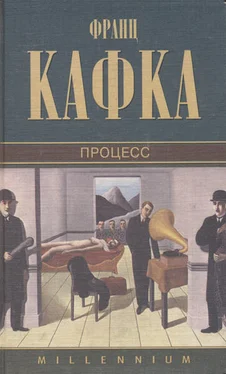






![Франц Кафка - Три романа - [Замок, Процесс, Америка]](/books/27971/franc-kafka-tri-romana-zamok-process-amerika-thumb.webp)




