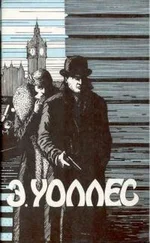Эдгар Аллан По
Разговор между Моносом и Уной
Диалог Эдгара По
Это – дела будущего…
Софокл – (Антигона )
Уна. – «Воскрес?»
Монос. – Да, моя милая, дорогая Уна, «воскрес»: Это и было то самое слово, о мистическом смысле которого я так долго размышлял, отвергая объяснения попов, пока сама смерть не разрешила мне моей загадки.
Уна. – Смерть!
Монос. – Каким странным эхо звучат для тебя, дорогая Уна, мои слова! Я замечаю при этом нерешительность в твоей походке и беспокойную радость в твоих глазах; ты смущена и подавлена величественной новизной вечной жизни. Да, я говорил о смерти. И как странно звучит это слово здесь, слово, которое некогда способно было вносить ужас во все сердца и омрачать всякое наслаждение!
Уна. – Ах, смерть, этот призрак, который являлся на все пиршества! Как часто, Монос, теряли мы голову, рассуждая о его природе. Каков он был, этот таинственный контролер, стоя перед человеческим счастием и говоря: «до сих пор и не далее»! Эта горячая взаимная любовь, мой дорогой Монос, которая пылала в наших сердцах, как бы мы ни старались напрасно льстить себе, чувствуя себя столь счастливыми с самого ее зарождения, при виде, как наше счастье с каждым днем все росло и росло в своей силе, – эта самая любовь, увы, росла, но вместе с нею рос и страх перед тем роковым часом, который должен был разлучить нас навсегда! И любовь, таким образом, со временем обратилась для нас в пытку. Ненависть в то время была бы для нас великою милостью.
Монос. – Не вспоминай здесь об этих мученьях, дорогая Уна, – моя теперь, моя навсегда!
Уна. – Но разве воспоминание о минувшем горе не доставляет радости в настоящем? Я желала бы, напротив, еще долго, долго говорить о всем прошлом, но, сверх всего, я сгораю желанием узнать также о всех приключениях, бывших с тобою во время путешествия через мрачную Долину и Тень.
Монос. – Когда же случалось, чтоб лучезарная Уна напрасно спрашивала о чем-либо у своего Моноса? Я расскажу тебе подробно все, как было, – но с какого же пункта начать мне мое таинственное повествование?
Уна. – С какого пункта?
Монос. – Да, с какого пункта?
Уна. – Я понимаю тебя, Монос. Смерть открыла нам обоим склонность человека к объяснению необъяснимого. Я не скажу: начни с момента прекращения жизни, – но, начни с того печального, печального момента, когда лихорадка оставила тебя, и ты впал в оцепенение, без дыхания и без движения, и когда я закрыла твои веки пальцами, дрожащими от страстной любви.
Монос. – Сначала, дорогая моя Уна, одно слово об общих условиях, в которых находится человек в данную эпоху. Ты помнишь, конечно, что один, или два мудреца из наших предков (это были мудрецы на самом деле, хотя они и не пользовались авторитетом в свете) осмелились сомневаться в значении слова прогресс, в смысле поступательного движения нашей цивилизации. Каждый из пяти-шести веков, предшествовавших нашей смерти, видел, что время от времени возвышалась какая-нибудь необыкновенная умственная сила, которая отчаянно боролась за эти принципы, очевидность которых в настоящее время для нашего просветленного рассудка находится вне малейшего сомнения, – за принципы, которые должны бы были научить нашу расу скорее самим руководствоваться законами природы, нежели пытаться контролировать их. Время от времени появлялись выдающиеся умы, в глазах которых всякий успех в практических науках был не более, как шаг назад к области истинной пользы. Иногда поэтический ум, этот высший, как мы знаем, духовный дар, – так как истины наибольшей важности могли быть нами открыты только благодаря этой аналогии, которая так много говорит воображению и ничего не говорит уму слабому и обыкновенному, – иногда, говорю я, поэтический ум опережал философскую нерешительность и в мистической притче о древе познания добра и зла и о запретном плоде, причинявшем смерть, видел ясное свидетельство, что наука не была добра к человеку в период несовершеннолетия его души. И эти люди, поэты, – живя и умирая в пренебрежении у «утилитаристов», грубых педантов, которые пользовались титулом, которого достойны лишь оставленные без всякого внимания поэты, – эти люди свои грезы и свои сожаления перенесли на эти далекие дни, когда наши нужды были так же просты, как наши радости упоительны, – когда слово веселость было неизвестно: так трогательны и глубоки были звуки счастья! – святые, священные, благословенные дни, когда голубые реки протекали полными берегами между нетронутыми ничьим прикосновением холмами и уходили далеко в глубь девственных, благоухающих, заповедных лесов.
Читать дальше