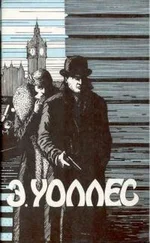Однако, эти благородные исключения из общей нелепости служили лишь к ее укреплению своей противоположностью. Увы! из всех наших дурных дней мы перешли в еще более худшие. – «Великое движение» (таково было тогдашнее арго) шло быстро вперед: болезненная сумятица, нравственная и физическая. Искусство или, лучше сказать, искусства поднялись на высшую степень, и однажды возведенные на трон, они набросили цепи на разум, который помог им подняться до этого могущества. Человек, который не мог не знать о величии природы, в простоте сердечной приходил в неописанную радость по случаю все растущих завоеваний над ее элементами. Точно также, в то время, как он в своей гордости воображал себя Богом, на него находило детское безумие; как это можно было предвидеть, с самого начала болезни, он скоро заразился всякими системами и абстракциями; он зашел в чересчур общие места. Между прочими странными идеями; идея всеобщего равенства заняла одно из первых мест на земле, и пред лицом аналогии и Бога, и наперекор предостерегающему во всеуслышание спасительному голосу законов градации, которые так очевидно проникали все земное и все небесное, – были сделаны бессмысленные усилия водворить на земле всеобщую демократию. Зло это необходимо вытекало из первого зла, науки. Человек не мог одновременно и делаться умным, и подчиняться. Но вот поднялись, с страшным дымом, массы городов. Зеленые листья покоробились от горячего дыхания горнила. Чудный лик природы был как будто обезображен опустошениями какой-то омерзительной болезни. И мне кажется, моя милая Уна, что наше чувство, даже заснувшее вследствие своей изможденности и изысканности, должно было бы нас здесь остановить. Но теперь ясно, что, развращая наш вкус, или, скорее, пренебрегая его образованием в школах, мы безрассудно довершили наше собственное разрушение. Ибо, поистине, в этом кризисе только один вкус,- эта способность, которая, занимая среднее место между умом в собственном смысле и нравственным чувством, никогда не могла быть презираема безнаказанно, – только один вкус мог вернуть нас постепенно к счастию, природе и жизни. Но, увы, чистый созерцательный ум и величественное вдохновение Платона! Увы, musice, на которую справедливо смотрели, как на вполне достаточное средство для воспитания души! Где были вы? – Когда вы исчезли во всеобщем забвении и презрении, в вас нуждались наиболее отчаянным образом. Паскаль, любимый нами обоими философ, дорогая Уна, сказал, – и как справедливо! – «que tout notre raisonnement se reduit a ceder au centiment»
[1] Все наши рассуждения сводятся к тому, чтобы уступить чувству (фр.).
, и не было бы ничего невозможного, если бы только это допустила эпоха, когда бы естественное чувство снова взяло бы свою прежнюю верховную власть над грубым математическим рассудком школяров. Но этому не суждено было случиться! Преждевременно вызванное оргиями науки, одряхление света быстро приближалось. Этого-то масса человечества не заметила, или, скорее, не хотела заметить, в своей прожорливой, хотя и несчастной жизни. Но, клянусь жизнью, летописи земного шара научили меня ожидать полнейшего разрушения, как возмездия, за высшую цивилизацию. Из сравнения простого, но долговечного Китая с архитектурной Ассирией, с астрологическим Египтом, с еще более, чем другие страны, изысканной Нубией, этой неспокойной колыбелью всех искусств, я почерпнул предвидение нашей судьбы; в истории этих стран я усмотрел луч будущего. Промышленные специальности последних трех стран были местными болезнями земли, и в гибели каждой местности мы видели приложение местного лечения; но для мира, зараженного в большей своей части, я не предвидел иного возможного возрождения, кроме смерти. Таким образом, так как человек, как раса, не может быть уничтожен окончательно, то я пришел к заключению, что он должен «возродиться».
И тогда-то, моя милая, моя дорогая, мы ежедневно погружались в свои мечты, и в часы сумерок разговаривали о будущем, – когда земная кора, затянутая вся промышленностью и подвергнувшаяся тому очищению, которое одно только могло сгладить все эти прямоугольные возвышенности, снова покроется зеленью, холмами и улыбающимися райскими реками и возобновит обычное обиталище для человека, – для человека, очищенного смертью, – для человека, облагораженный ум которого не найдет уже более яда в науке, – для человека искупленного, возрожденного, счастливого, отныне бессмертного и, однако, все еще облеченного материей.
Читать дальше