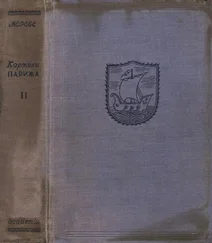Глава десятая
ЧЕЛОВЕК В МАСКЕ
— Но что это там, скажите на милость, за человек в маске? Как он спешит! Он словно спасается от кого-то.
— Это автор, написавший дурную книгу. Я имею в виду не недостатки стиля или остроумия: можно написать превосходную книгу, обладая лишь здравым смыслом. [41] Это неоспоримая истина, и иная проповедь деревенского кюре приносит гораздо большую пользу, чем умнейшая книга, начиненная всевозможными сентенциями и софизмами.
Это только значит, что в книге содержатся опасные принципы, противоречащие здоровой нравственности, той всеобщей нравственности, которая открыта всем сердцам. В наказание за это он и носит маску, дабы сокрыть свой стыд, и сию маску будет носить до тех пор, пока не искупит своей вины, написав нечто более разумное и достойное. Каждый день его навещают два добродетельных гражданина; действуя мягкостью и убеждением, они оспаривают его ошибочные взгляды, выслушивают его возражения, отвечают на них, а как только им удается его разубедить, предлагают отречься от своих мыслей. Тогда он вновь обретет свое доброе имя, а раскаянием своим заслужит еще большую славу: ибо что может быть прекраснее, чем отречься от заблуждений [42] Все доказуемо в теории, само заблуждение имеет свою геометрию.
и в благородном порыве уверовать в истину?
— Но ведь прежде чем эта книга была напечатана, ее кто-то одобрил?
— Помилуйте, кто же смеет судить о книге прежде, чем это сделает публика? Кто может предугадать, какое влияние окажет та или иная мысль в тех или иных обстоятельствах? Каждый писатель самолично отвечает за то, что он пишет, и никогда не скрывает своего имени. Публика — вот кто выставляет его на позор, если он оскорбил те святые принципы, на коих зиждется поведение и честность людей; но в то же время именно она поддержит его, если он выскажет какую-нибудь новую истину, способную пресечь те или иные недостатки; словом, публика — единственный судья в такого рода случаях, и только к ее голосу и прислушиваются. Автор есть лицо общественное, и судьба его зависит от общественного мнения, а не от капризов какого-либо одного человека, который редко обладает достаточно верными и широкими взглядами, чтобы обнаружить, что именно в глазах всего народа будет достойно похвалы или осуждения. Не раз уже доказано было, что подлинной мерой гражданской свободы является свобода печати. [43] Это ясно, как геометрическая истина.
Нельзя нарушить одну, не уничтожив другую. Мысль должна быть высказана, наложить на нее узду — значит задушить ее в собственном святилище, а это преступление против человечества. Если моя мысль мне не принадлежит, что же тогда принадлежит мне?
— Но в мое время влиятельные особы ничего так не боялись, как пера хороших писателей. Их тщеславные, их преступные души содрогались от страха, когда справедливость осмеливалась выставлять напоказ поступки, которые они не стыдились совершать. [44] В драме, которая называется «Бракосочетание королевского сына», министр юстиции, придворный злодей, говорит {303} своему лакею по поводу писателей-философов: «Друг мой, это прескверные люди. Стоит допустить малейшую несправедливость, как они тотчас же ее замечают. Напрасно искусная маска скрывает наше подлинное лицо от самых проницательных глаз. Эти люди, проходя мимо нас, словно говорят: „Я вижу тебя насквозь“. Господа философы, надеюсь, мне удастся дать вам понять, что видеть насквозь такого человека, как я, весьма опасно. Не желаю я, чтобы меня видели насквозь».
Вместо того чтобы поддерживать сию общественную цензуру, которая, будучи хорошо управляема, могла бы стать самой надежной уздой для порока и преступления, всякое сочинение пропускалось у нас как бы через сито, {49} 49 …всякое сочинение пропускалось у нас как бы через сито… — Речь идет о цензурном гнете, препятствовавшем свободному развитию просветительской мысли в дореволюционной Франции. Надзор над всей книжной продукцией осуществлялся «королевскими цензорами»; предварительной цензуре подлежала также каждая театральная пьеса.
у которого была столь мелкая сетка, что лучшие мысли в ней нередко застревали; вдохновенные порывы гения подвластны были жестоким ножницам, с помощью которых посредственность безжалостно укорачивала ему крылья. [45] Половину так называемых королевских цензоров составляют люди, которых нельзя назвать литераторами, даже плохими. О них можно сказать, что они просто умеют читать.
Читать дальше
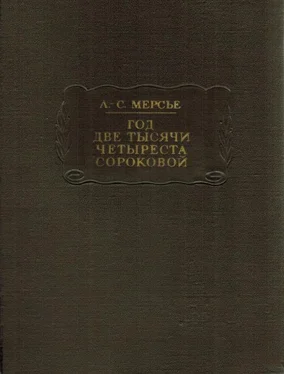
![Леон Грок - Две тысячи лет под водой [Затерянные миры. Том ХХI]](/books/27138/leon-grok-dve-tysyachi-let-pod-vodoj-zateryannye-mir-thumb.webp)