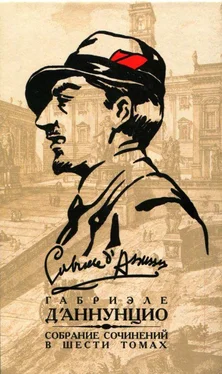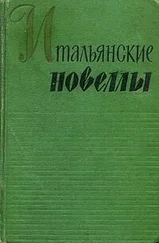Джорджио думал: «Как Ипполита будет счастлива здесь! Она понимает и ценит незатейливую красоту природы. Я помню ее радостные возгласы при виде какого-нибудь неизвестного цветка, растения, ягоды, насекомого с причудливой окраской и переливами». Он представил себе высокую, стройную фигуру Ипполиты, полную грации, утопающую в зелени, и внезапное страдание проникло все его существо: его охватило мучительное желание снова держать ее в своих объятиях, овладеть ее телом, пробудить в ней безграничную страсть, доставить ей неизведанные наслаждения. «Глаза ее будут слепы ко всему, кроме меня. Все ощущения ее будут создаваться только мной. Звук моего голоса заменит все остальные». Внезапно могущество любви показалось ему бесконечным. Жажда жизни проснулась в нем со стихийной силой.
Поднимаясь по лестнице, он думал, что сердце его не выдержит и разорвется под наплывом возрастающего волнения. Войдя на террасу, он обвел весь пейзаж отуманенным взором. В эти минуты прилива жизнерадостности ему казалось, будто солнце восходит в глубине его души.
Спокойная поверхность моря отражала сияние, разлитое в небе, и дробила его на мириады неугасимых лучей. В прозрачном воздухе ясно вырисовывались далекие окрестности: Пенна-дель-Васто, гора Гаргано, острова Тремити — справа, мыс Моро, Никкиоло, мыс Ортона — слева. Белая Ортона, похожая на азиатский город горячих холмов Палестины, выступала на фоне лазури с плоскими крышами своих построек, у которых недоставало лишь минаретов. Вся эта цепь мысов и заливов в форме полумесяца производила впечатление ряда жертвенников, потому что каждый клочок земли здесь представлял собой богатую житницу. Цветущий дрок застилал своей золотой мантией все побережье. Из каждого кустика неслись густые волны благоуханий, подобно ладану из кадила. Воздух, наполнявший грудь, казался живительной влагой.
III
Первые дни Джорджио весь ушел в хлопоты по устройству маленького домика, готовившегося заключить в свои мирные объятия Новую Жизнь. В лице Коло ди Шампанья он нашел себе деятельного помощника, искусного во всех ремеслах. Вдохновленный овладевшей им иллюзией Джорджио начертил на полоске новоотштукатуренной стены старинный девиз: Parva domus, magna quies. Даже пустившие ростки три семячка гвоздики, занесенные, по всей вероятности, ветром в щель оконной рамы, показались ему добрым предзнаменованием.
Но, когда все было готово и искусственное возбуждение улеглось, он почувствовал в глубине своей души какое-то недовольство и странную, необъяснимую тревогу, ему казалось, что и на этот раз судьба толкнула его на путь ложный и опасный, из другого места, с других уст доносился до ушей его голос призыва и упрека. Он переживал скорбь недавней разлуки без слез, но такой мучительной в тот момент, когда он солгал, скромно опустив глаза и не отвечая на безмолвный вопрос, светившийся в усталых глазах его матери: «Для кого ты покидаешь меня?»
Не этот ли безмолвный вопрос, в связи с его собственным смущением и ложью, причинял ему такое беспокойство и страдание на пороге вступления в Новую Жизнь? Что сделать, чтобы заглушить этот голос? Какое опьянение нужно для этого?
Он не осмеливался ответить. Несмотря на свое душевное смятение, он хотел верить в обещание той, что должна была приехать, он хотел верить и в возможность возрождения при помощи любви. Разве не испытывает он страстной жажды жизни, стремления к гармоническому развитию своих природных способностей, к самосовершенствованию? Что же, как не любовь, свершит это чудо? В ней он найдет полноту жизни, она исцелит его душу, ослабевшую и страдающую столькими недугами.
Такими надеждами, такими мечтами пытался он заглушить раскаяние, но преобладающим чувством во всех воспоминаниях о возлюбленной бессменно выступала на первый план животная страсть к ней. Вопреки всем возвышенным духовным стремлениям он не постиг в любви чего-либо помимо чувственного влечения, и будущее являлось в его воображении бесконечной вереницей дней, наполненных уже изведанными наслаждениями. В этом благословенном уголке, рядом с влюбленной в него женщиной, какая же иная жизнь, если не полная страсти, ожидала их? А образы недавних грустных переживаний снова витали в его воображении: страдальческое лицо матери, ее потухшие глаза, красные распухшие от слез веки, кроткая улыбка Христины, большая головка ребенка, всегда склоненная на грудь, откуда вырывались слабые признаки дыхания, лицо жалкой лакомки-идиотки, напоминающее лицо трупа. А в усталых глазах матери светился неизменный вопрос: «Для кого ты покидаешь меня?»
Читать дальше