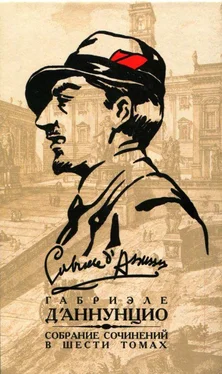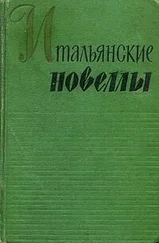Вскоре раздражение это, подогреваемое приготовлениями к отъезду и горестной перспективой разлуки, захватило его всецело.
Прощание с возлюбленной было мучительней, чем когда-либо. Джорджио находился в состоянии повышенной чувствительности, больные нервы не давали ему ни на минуту покоя. Будущее не сулило ничего, кроме горя и тревоги.
Расставаясь с Ипполитой, он сказал:
— Еще увидимся ли мы!
Поцеловав ее в последний раз в дверях вагона, он заметил, что она немедленно спустила черную вуаль над его поцелуем, этот ничтожный сам по себе факт поверг его в смущение и приобрел для него значение зловещего символа.
Приехав на родину в Гуардиагрелле и войдя в свой отчий дом, он так ослаб духом, что, обнимая мать, расплакался, как дитя. Но ни объятия матери, ни слезы не облегчили его. Он чувствовал себя одиноким в родном доме, среди родной семьи. Странное ощущение одиночества среди близких, знакомое ему и прежде, пробуждалось теперь с еще большей силой, с большей нетерпимостью. Тысячи мелких подробностей домашнего обихода раздражали, оскорбляли его. Обычная тишина во время обеда и завтрака, нарушаемая лишь звоном ножей и вилок, казалась ему просто невыносимой. Эстетическое чувство, свойственное его натуре, страдало здесь каждую секунду, и нервы расстраивались…
Атмосфера вражды и раздора тяготела над этим жилищем, и Джорджио задыхался в нем.
В первый же вечер по его приезде мать удалилась с ним в отдельную комнату, чтобы поведать о всех своих неприятностях, огорчениях, несчастьях, а также о беспорядочном, безнравственном поведении своего мужа.
Дрожащим от негодования голосом, глядя на него полными слез глазами, она сказала:
— Твой отец негодяй!
Веки ее несколько распухли и были красны от частых слез, щеки ввалились, вся внешность носила на себе следы долгих страданий.
— Да, негодяй! Негодяй!
Слова эти продолжали звенеть в ушах Джорджио, когда он поднимался к себе в комнату, образ матери носился перед его глазами, он снова слышал постыдные обвинения, сыпавшиеся на человека, чья кровь текла в его жилах, и на сердце его была такая тяжесть, что, казалось, оно не вынесет более и разорвется. Но вот картина внезапно сменилась: среди бурного прилива страсти перед ним всплыл образ далекой возлюбленной, и тогда он почувствовал, что ему бы хотелось ничего не знать, ни над чем не задумываться, кроме своей любви, не испытывать никаких ощущений, не связанных с нею. Он вошел в свою комнату и запер за собой дверь. Лунная майская ночь смотрела в стеклянные двери балконов. Чувствуя потребность подышать свежим воздухом, он открыл дверь, вышел на балкон и, опершись на балюстраду, жадными глотками, казалось, пил влагу ночи. Бесконечное спокойствие царило внизу, в долине, Маиелла, вся еще белая от снега, дополняла красоту неба величественной красотой своих контуров.
Гуардиагрелле, похожее на стадо овец, дремало у подножья Санта-Мария Маджиоре. Одно освещенное окно противоположного дома являлось каким-то желтым пятном на этом фоне.
Джорджио забылся. Красота ночи заслоняла собой все мысли и будила лишь одну: «Вот еще ночь, погибшая для счастья!» Среди окружающей тишины слышался лишь топот лошади в соседней конюшне да замирающий звон бубенчиков.
Взгляд Джорджио обратился к освещенному окну, и на фоне желтого прямоугольника рамы он увидел колеблющиеся тени человеческих фигур, двигавшихся там внутри. Он стал прислушиваться. Ему показалось теперь, что кто-то слегка постучал в дверь. Неуверенный, он пошел отворить. То была тетка Джоконда. Она вошла.
— Ты обо мне и думать забыл, — сказала она, обнимая его.
На самом деле, не видя ее в числе встречавших его родственников, Джорджио совершенно забыл о ее существовании. Он поспешил извиниться, посадил ее на стул и заговорил с ней ласковым тоном.
Тетке Джоконде, старшей сестре его отца, было лет под шестьдесят. Она хромала после одного несчастного случая и проявляла склонность к полноте, но полноте нездоровой, рыхлой, лимфатической. Вся ушедшая в религиозные обряды, она жила особняком в своей комнате на верхнем этаже, почти не соприкасаясь с семьей, всеми забытая, никогда никем не любимая, считавшаяся слабоумной. Мир ее составляли священные предметы, реликвии, символы, жизнь протекала исключительно в религиозных упражнениях: монотонном пении молитв и жестокой борьбе с чревоугодием. Она обожала сладости, а всякая иная пища внушала ей отвращение. Но зачастую сладостей не было, и Джорджио пользовался ее исключительной любовью за то, что всякий раз, приезжая в Гуардиагрелле, не забывал привезти ей коробочку леденцов и коробочку шоколада с ромом.
Читать дальше