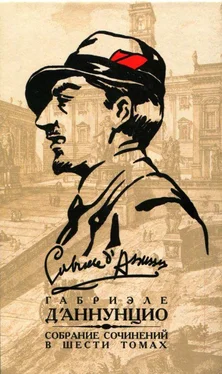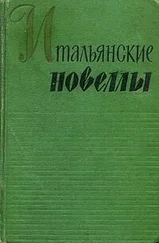Джорджио думал: «И в данном случае, как всегда, она лишь повиновалась внушениям моей фантазии. Духовная жизнь чужда ей. Лишь только кончается мое воздействие, она неизменно возвращается к своей сущности, превращается в самку — орудие грубой чувственности. Ничто не изменяет ее, ничто не облагораживает. В ней течет плебейская кровь, и кто знает, какие задатки она унаследовала вместе с ней! Но я убежден, что никогда не освобожусь от своей страсти к ней, никогда не буду в силах победить желаний, зажигаемых ею. Я не могу жить ни с ней, ни без нее. Я чувствую, что моя смерть неизбежна, но могу ли я предоставить ее новому возлюбленному…» Никогда еще не испытывал он такой ненависти к этому непосредственному созданию. Он сам удивлялся хладнокровию своего анализа над ней. Он как будто мстил ей за измену, за обман, преступающий все границы коварства. Он испытывал зависть утопающего, когда тот в момент своего погружения на дно замечает товарища, готового спастись и остаться в живых. Для него самого эта годовщина являлась новым подтверждением необходимости покончить с собой. Для него этот день был днем Крещения Смертью. Он чувствовал, что перестает принадлежать себе, что всецело подпадает под влияние неотвязной идеи, которая с минуты на минуту может внушить ему окончательное решение и сообщить для этого необходимую энергию. Неясные образы смерти мелькали в его сознании.
«Должен ли я умереть один? — повторял Джорджио самому себе. — Должен ли я умереть один?»
Он вздрогнул от прикосновения Ипполиты, обвившей руками его шею.
— Я тебя испугала? — спросила она.
Когда Ипполита увидала его исчезающим в густом сумраке за дверью — странная тревога овладела ею, и она подошла, чтобы обнять его.
— О чем ты думаешь? Что с тобой? Почему ты такой сегодня?
Она говорила с ним вкрадчивым голосом, сжимая его в своих объятьях, ласково проводя пальцами по его виску. В темноте можно было различить таинственную бледность ее лица и светящиеся глаза.
Непобедимый трепет охватил Джорджио.
— Ты дрожишь? Что с тобой? Что с тобой?
Она выпустила его, отыскала свечу и зажгла ее. Потом подошла к нему и с беспокойством взяла его за руку.
— Ты болен?
— Да, — пробормотал он, — мне нехорошо, это один из моих скверных дней.
Уже не первый раз слышала она от него жалобы на неясные физические страдания, на глухую, блуждающую боль, на головокружение и кошмары.
Его недомогания казались ей воображаемыми, она видела в них проявление обычной меланхолии, слишком большую наклонность к размышлениям и не знала другого лекарства, кроме ласк, смеха и шуток.
— Чем ты страдаешь?
— Не сумею сказать.
— О! Я знаю хорошо причину твоего настроения. Музыка слишком возбуждает тебя. По крайней мере с неделю надо подождать ею заниматься.
— Да, мы больше не будем этого делать.
— Совсем не будем.
Она подошла к пианино, опустила крышку над клавишами, заперла инструмент и спрятала ключ.
— Завтра мы возобновим наши дальние прогулки, все утро проведем на берегу. Хочешь? Теперь же пойдем на террасу.
Она привлекла его к себе нежным движением.
— Смотри, как прекрасен вечер! Чувствуешь ты благоухание скал? — Она вдыхала соленый аромат, дрожа и прижимаясь к нему.
— У нас все есть для счастья, а ты… Как будешь ты сожалеть об этом времени, когда оно пройдет. Дни бегут. Вот уже три месяца живем мы здесь.
— Разве ты уже думаешь покинуть меня? — спросил он тревожно и подозрительно.
Ей хотелось успокоить его.
— Нет, — ответила она. — Нет еще. Но мне трудно продолжить мое отсутствие из-за матери. Даже сегодня я получила от нее письмо с просьбой вернуться. Ты знаешь, я нужна ей. Когда меня нет дома — все идет вверх дном.
— Значит, ты скоро возвращаешься в Рим?
— Нет. Я придумаю еще какой-нибудь предлог. Тебе известно ведь, что для мамы я здесь живу с подругой. Сестра помогала и помогает мне придавать правдоподобный вид этой выдумке, к тому же мать знает, что мне необходимы купания, в прошлом году я себя чувствовала нехорошо без них. Помнишь? Я проводила лето в Каронно у сестры. Какое ужасное лето!
— Значит, как же?
— Без сомнения, я могу остаться с тобой весь август месяц, может быть, даже первую неделю сентября.
— А потом?
— Потом ты позволишь мне вернуться в Рим, приедешь сам туда, и мы постараемся устроиться как-нибудь. У меня есть план…
— Какой?
— Я расскажу тебе. А теперь давай обедать. Ты не голоден?
Обед был готов. По обыкновению стол накрыли на террасе и зажгли высокую лампу.
Читать дальше