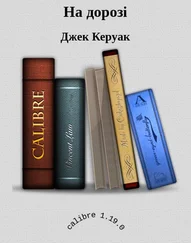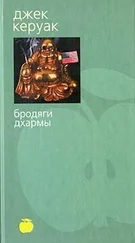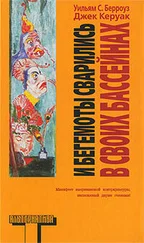Вот так, на самом деле, и началась моя дорожная жизнь, и то, чему суждено было случиться потом, – чистая фантастика, и не рассказать об этом нельзя.
Да, и я хотел ближе узнать Дина не просто потому, что был писателем и нуждался в свежих впечатлениях, и не просто потому, что вся моя жизнь, вертевшаяся вокруг студгородка, достигла какого-то завершения цикла и сошла на нет, но потому, что непонятным образом, несмотря на несходство наших характеров, он напоминал мне какого-то давно потерянного братишку: при виде страдания на его костистом лице с длинными бачками и капель пота на напряженной мускулистой шее я невольно вспоминал свои мальчишеские годы на красильных свалках, в котлованах, заполненных водой, и на речных отмелях Патерсона и Пассаика. Его грязная роба льнула к нему так изящно, будто заказать лучшего костюма у портного было невозможно, а можно было лишь заработать его у Прирожденного Портного Естества И Радости, как этого своим потом и добился Дин. А в его возбужденной манере говорить я вновь слышал голоса старых соратников и братьев – под мостом, среди мотоциклов, в соседских дворах, расчерченных бельевыми веревками, и на дремотных полуденных крылечках, где мальчишки тренькают на гитарах, пока их старшие братья вкалывают на фабриках. Все остальные нынешние мои друзья были «интеллектуалами»: антрополог-ницшеанец Чад, Карло Маркс с его прибабахнутыми сюрреальными разговорами тихим голосом с серьезным взглядом, Старый Бык Ли с такой критической растяжечкой в голосе, не приемлющий абсолютно ничего; или же они были потайными беззаконниками, типа Элмера Хассела с этой его хиповой презрительной насмешкой, или же типа Джейн Ли, особенно когда та растягивалась на восточном покрывале своей кушетки, фыркая в «Нью-Йоркер». Но разумность Дина была до последнего зернышка дисциплинированной, сияющей и завершенной, без этой вот занудной интеллектуальности. А «беззаконность» его была не того сорта, когда злятся или презрительно фыркают: она была диким выплеском американской радости, говорящей «да» абсолютно всему, она принадлежала Западу, она была западным ветром, одой, донесшейся с Равнин, чем-то новым, давно предсказанным, давно уже подступающим (он угонял машины, только чтобы прокатиться удовольствия ради). А кроме этого, все мои нью-йоркские друзья находились в том кошмарном положении отрицания, когда общество низвергают и приводят для этого свои выдохшиеся причины, вычитанные в книжках, – политические или психоаналитические; Дин же просто носился по обществу, жадный до хлеба и любви, – ему было, в общем, всегда плевать на то или на это, «до тех пор, пока я еще могу заполучить себе вот эту девчоночку с этим ма-а-ахоньким у нее вон там между ножек, пацан», и «до тех пор, пока еще можно пожрать, слышишь, сынок? я проголодался, я жрать хочу, пошли сейчас же пожрем чего-нибудь!» – и вот мы уже несемся жрать, о чем и глаголил Екклезиаст: «Се доля ваша под солнцем».
Западный родич солнца, Дин. Хотя тетка предупредила, что он меня до добра не доведет, я уже слышал новый зов и видел новые дали – и верил в них, будучи юн; и проблески того, что действительно не довело до добра, и даже то, что впоследствии Дин отверг меня как своего кореша, а потом вообще вытирал об меня ноги на голодных мостовых и больничных койках – разве имело все это хоть какое-нибудь значение? Я был молодым писателем и хотел стронуться с места.
Я знал, что где-то на этом пути будут девчонки, будут видения – все будет; где-то на этом пути жемчужина попадет мне в руки.
В июле месяце 1947 года, скопив около полусотни долларов из старых ветеранских льгот, я был готов ехать на Западное Побережье. Мой друг Реми Бонкёр написал мне из Сан-Франциско письмо, в котором говорил, что мне следует приехать и отплыть с ним вместе на кругосветном лайнере. Он клялся, что протащит меня в машинное отделение. В ответ я написал, что мне хватит любого старого сухогруза и нескольких длинных тихоокеанских рейсов – так, чтобы я смог вернуться, заработав достаточно денег, чтобы поддерживать себя в теткином доме, пока не закончу книгу. Он написал, что у него есть хибара в Милл-Сити, и у меня будет бездна времени, чтобы там писать, пока он будет заниматься всякой волокитой с устройством на судно. Он жил с девчонкой по имени Ли-Энн; та великолепно готовит, и все будет ништяк. Реми был моим старым школьным другом, французом, которого воспитали в Париже, – и по-настоящему сумасшедшим: в то время я еще просто не знал, насколько сумасшедшим. И вот, значит, он ждал, что я приеду к нему через десять дней. Тетка была совершенно не против моей поездки на Запад: она сказала, что это принесет мне только пользу, ведь всю зиму я так усердно работал и почти не выходил на улицу; она даже не возражала, когда выяснилось, что часть пути мне придется проехать автостопом. Тетка лишь пожелала мне вернуться домой в целости и сохранности. И вот, оставив на письменном столе объемистую половину своей рукописи и сложив однажды утром в шкаф уютные домашние простыни в последний раз, я вышел из дому с полотняной сумкой, в которую уложились мои немногие основные принадлежности, и взял курс к Тихому Океану c полусотней долларов в кармане.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу