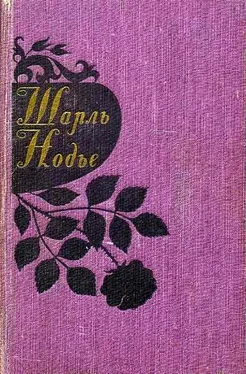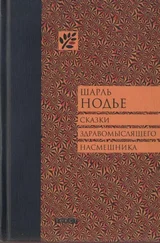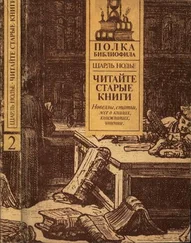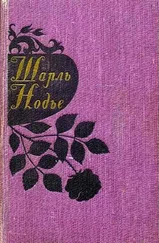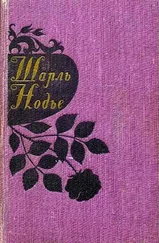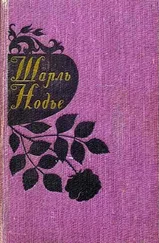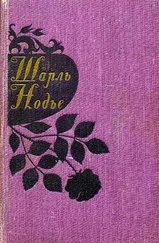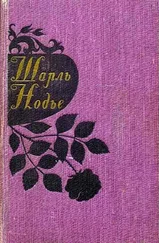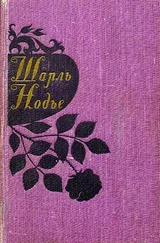Джанни заметила, что она слишком удалилась от берега, но Трильби понял ее тревогу и поторопился успокоить ее, укрывшись на носу лодки.
— Продолжай свой путь, Джанни, — сказал он, — возвращайся без меня на берега Аргайля, куда я не могу проникнуть без разрешения, в котором ты мне отказываешь. Покинь бедного Трильби на земле изгнания, пусть он живет там, осужденный на вечную тоску в разлуке с тобой; он отдал бы все за то, чтобы ты бросила на него прощальный взгляд. Несчастный! Как беспросветна ночь!
На озере загорелся блуждающий огонек.
— Вот он, — сказал Трильби, — боже, благодарю тебя! За эту цену я счастлив нести твое проклятие!
— Это не моя вина, — возразила Джанни, — я не ожидала, Трильби, этого странного света, и если глаза мои встретились с вашими, если вам почудилось в них согласие, последствий которого я, правда, не предвидела, вы ведь знаете, что заклятие грозного Рональда ставит еще одно условие. Нужно, чтобы Дугал сам послал вас в хижину. Да и к тому же разве мой и его отказ не послужил бы вашему счастью? Ведь вас любят, Трильби, ведь вас обожают благородные дамы Аргайля, и в их дворцах вы, наверное, нашли…
— В дворцах благородных дам Аргайля! — живо возразил Трильби. — О, с тех пор как я покинул хижину Дугала, хотя это было в начале самого сурового времени года, нога моя не переступала порога человеческого жилища и я не отогревал своих окоченевших пальцев у огня пылающего очага. Мне было холодно, Джанни, и сколько раз, устав дрожать на берегу озера, среди свежих кустов, склоняющихся под тяжестью облепившего их ветви снега, я, чтобы разбудить остатки тепла в моих озябших ногах, прыжками поднимался до горных вершин! Сколько раз обволакивал меня свежевыпавший снег, и я скатывался вместе с лавиной, направляя ее так, чтобы она не разрушила построек, не смела бы на своем пути молодые растения и не нанесла вреда какому-нибудь живому существу. Однажды, катясь с высоты, я заметил камень, на котором рука какого-то изгнанника начертала имя его матери; растроганный, я поспешил отклонить ужасную лавину и устремился вместе с ней в пропасть, где никогда не бывало даже насекомого. Только когда баклан, рассерженный тем, что толстый слой льда сковывает бухту и мешает ему собирать дань обычного улова, перелетал залив с нетерпеливым криком, устремляясь в поисках более легкой добычи на Фирс Клайда или Сунд Юры, я с радостью забирался на крутой утес, в гнездо странствующей птицы, и, тревожась лишь о том, чтобы баклан не сократил своей отлучки, грелся среди его птенцов, слишком юных для того, чтобы летать с ним вместе над морем; быстро привыкнув к своему тайному гостю (потому что я никогда не забывал принести им какой-нибудь подарок), они теснились при моем приближении, чтобы освободить мне местечко возле себя на мягкой подстилке из пуха. Или, подражая ловкой полевой мыши, которая роет себе на зиму подземное жилище, я старательно снимал толстый слой снега и льда в каком-нибудь уголке на склоне горы, куда на следующее утро должны были упасть первые лучи восходящего солнца, я осторожно приподнимал ковер из сухого мха, уже много лет белевшего на скале, и, когда доходил до последнего слоя, заворачивался в его серебряные нити, словно ребенок в свивальник, и засыпал, укрытый от ночного ветра своим бархатным пологом, радуясь при мысли о том, что ты, может быть, ступала по нему, когда несла зерно или рыбу, чтобы уплатить десятину. Вот, Джанни, в каких роскошных дворцах я жил с тех пор, как расстался с тобой, вот как богато принимали меня их хозяева — зябкий жук-рогач, которого я иногда невольно тревожил в его глубокой норке, или легкомысленная чайка, застигнутая внезапной грозой и принужденная укрыться вместе со мной в стволе подточенной годами и огнем старой ивы, черное дупло которой, все обожженное внутри и наполненное золой, указывало на обычное место сбора контрабандистов. Вот, жестокая, за какое счастье ты меня упрекаешь. Но что я говорю? Ах! Даже в это тяжелое время у меня все же были счастливые минуты! Хотя мне было запрещено говорить с тобой и даже приближаться к тебе без твоего разрешения, я все-таки следил взглядом за твоей лодкой, и эльфы, с которыми поступили не так сурово, как со мной, сочувствуя моим горестям, приносили мне иногда твое дыхание и твои вздохи. Когда вечерний ветерок сдувал с твоих волос остатки осеннего цветка, крыло услужливого друга поддерживало их в пространстве, пока они не достигали места моего изгнания — вершины одинокого утеса или блуждающего облака, — и мимоходом роняло их мне на грудь. Однажды даже — ты помнишь ли это? — имя Трильби замерло на твоих устах; один эльф поймал его и, прилетев ко мне, очаровал мой слух звуками этого невольного призыва. Тогда я плакал, думая о тебе, и слезы печали сменились слезами радости: неужели сейчас, возле тебя, я должен сожалеть о том, что утешало меня в изгнании?
Читать дальше