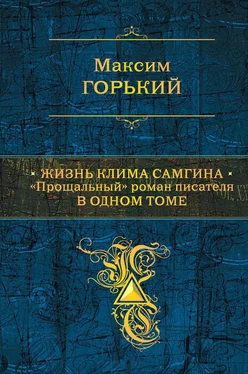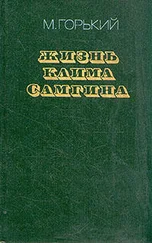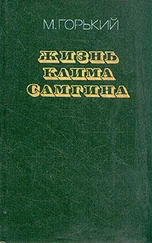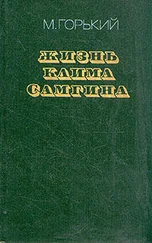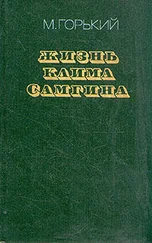Ж-жизни тот один достоин…
Кто всегда, да-да-да-да…
Ни туда и ни сюда, и никуда, —
И ерунда…
Играл он равнодушно, нелепо рискуя, много проигрывая. Сидели посредине комнаты, обставленной тяжелой жесткой мебелью под красное дерево, на книжном шкафе, возвышаясь, почти достигая потолка, торчала гипсовая голова (Мицкевича), над широким ковровым диваном — гравюра: Ян Собесский под Веной. Одно из двух окон в сад было открыто, там едва заметно и беззвучно шевелились ветви липы, в комнату втекал ее аптечный запах, вползали неопределенные [шорохи?], заплутавшиеся в ночной темноте. Самгин отказался играть в девятку, курил и, наблюдая за малоподвижным лицом поручика, пробовал представить его в момент атаки: впереди — немцы, сзади — мужики, а он между ними один. Думалось о поручике грустно.
«Один между двух смертей и — остается жив».
— Скажите, — спросил он, — идя в атаку, вы обнажаете шашку, как это изображают баталисты?
— Обнажаю, обнажаю, — пробормотал поручик, считая деньги. — Шашку и Сашку, и Машку, да, да! И не иду, а — бегу. И — кричу. И размахиваю шашкой. Главное: надобно размахивать, двигаться надо! Я, знаете, замечательные слова поймал в окопе, солдат солдату эдак зверски крикнул: «Что ты, дурак, шевелишься, как живой?»
Поручик сипло захохотал, раскачиваясь на стуле:
— Хорошенькое бон мо? [26] Острое словцо (франц.). — Ред.
То-то! Вот как действуют обстоятельства…
Вторя его смеху своим густо охающим, следователь объявил:
— По банку. И сорвал банк.
Поручик Петров встал, потряс над столом руками, сказал:
— Всё.
Затем, тихонько свистнув сквозь зубы, отошел к дивану, сел, зевнул и свалился на бок.
— Вот так — вторую неделю, — полушепотом сказал следователь, собирая карты. — Отдыхает после госпиталя. Ранен и контужен.
Петров храпел.
— Домовладелец здешний, сын советника губернского правления, уважаемого человека. Семью отправил на Волгу, дом выгодно сдал военному ведомству. Из войны жив не вылезет — порок сердца нажил.
В свистящем храпе поручика было что-то жуткое, эту жуть усиливал полушепот следователя.
— Это — Мицкевич, — говорил он. — Жена у меня полька.
Уже светало. Самгин пожелал ему доброй ночи, ушел в свою комнату, разделся и лег, устало думая о чрезмерно словоохотливых и скучных людях, о людях одиноких, героически исполняющих свой долг в тесном окружении врагов, о себе самом, о себе думалось жалобно, с обидой на людей, которые бесцеремонно и даже как бы мстительно перебрасывают тяжести своих впечатлений на плечи друг друга. Он, Клим Иванович Самгин, никогда не позволяет себе жалоб на жизнь, откровенностей, интимностей. Даже с Мариной Зотовой не позволял. Он уже дремал, когда вошел Петров, вообще зевнул, не стесняясь шуметь, разделся а, сидя в ночном белье, почесывал обеими руками волосатую грудь. — Спите? — спросил он.
— Нет.
— А — между нами — жизнь-то, дорогой мой, — бессмысленна. Совершенно бессмысленна. Как бы мы ни- либеральничали. Да-да-да. Покойной ночи.
— Спасибо, — тихонько откликнулся Самгин, крайне удивленный фразой поручика о жизни, — фраза эта не совпадала с профессией героя, его настроением, внешностью, своей неожиданностью она вызывала такое впечатление, как будто удар в медь колокола дал деревянный звук. Клим Иванович с некоторого времени, изредка, в часы усталости, неудач, разрешал себе упрекнуть жизнь в неясности ее смысла, но это было похоже на преувеличенные упреки, которые он допускал в ссорах с Варварой, чтоб обидеть ее. С той норы как Тагильский определил его роль и место в жизни как роль имеете аристократа от демократии, он, Самгин, конечно, не мог уже серьезно думать, что его жизнь бессмысленна. А поручик думает так серьезно.
— Главное, голубчик мой, в том, что бога — нет! — бормотал поручик, закурив папиросу, тщательно, как бы удовлетворяя давнюю привычку, почесывая то грудь, то такие же мохнатые ноги. — Понимаете — нет бога. Не по Вольтеру или по этому… как его? Ну — чорт с ним! Я говорю: бога нет не по логике, не вследствие каких-то доказательств, а — по-настоящему нет, по ощущению, физически, физиологически и — как там еще? Одним словом… В детстве у меня сложилось эдакое крепкое верование: в Нижнем-Новгороде знаменитый монумент Минину — Пожарскому. Один — в Москве, другой, лучший, в Нижнем. Приехал я туда в кадетский корпус учиться, а памятника-то — нет! Был? И не было никогда… Вот так и бог.
Когда Самгин проснулся, разбуженный железным громом, поручика уже не было в комнате. Гремела артиллерия, проезжая рысью по булыжнику мостовой, с громом железа как будто спорил звон колоколов, настолько мощный, что казалось — он волнует воздух даже в комнате. За кофе следователь объяснил, что в городе назначен смотр артиллерии, прибывшей из Петрограда, а звонят, потому что — воскресенье, церкви зовут к поздней обедне.
Читать дальше