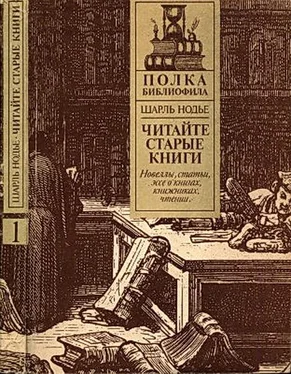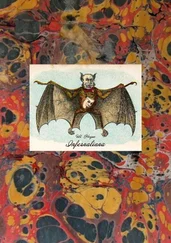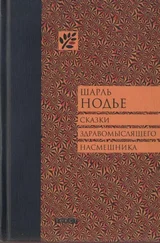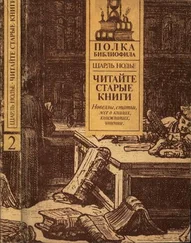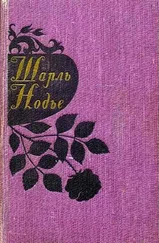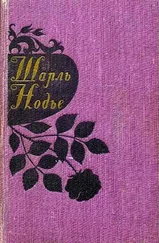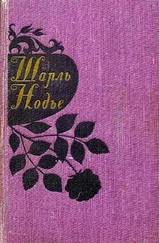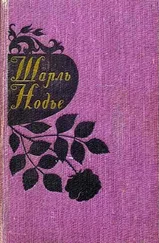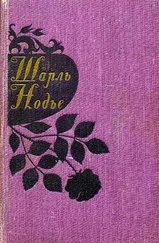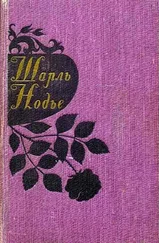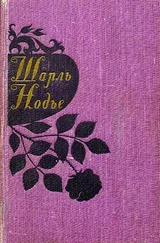Прошло сто лет после триумфов Корнеля, и, вознамерившись освежить поэтический язык, Вольтер сразу вспомнил об антитезе, которая долгое время была не в чести у литераторов и потому поразила всех блеском новизны; на редкость гибкий ум Вольтера легко овладел этой симметричной и вычурной фигурой, неизвестной Гомеру и чуждой Вергилию, но изобилующей в литературах времен упадка, фигурой, которая так же несовместима с совершенством формы, как с правдой и здравым смыслом, фигурой, которая ломает, калечит, искажает мысль, придает периоду отрывистое, однообразное, монотонное звучание, ограничивает круг мыслей сравнениями и контрастами и грешит в лучшем случае манерностью, а в худшем — неточностью и надуманностью.
Неуместное обилие антитез смущает всех без исключения читателей ”Генриады”, поэтому поэтическая школа, пришедшая на смену Вольтеру, постаралась изыскать другие приемы или, по крайней мере, обновить антитезу. Прежде противопоставляли идеи и образы, ныне стали противопоставлять слова — способ еще более нелепый и ошибочный. Писатели возомнили, будто для того, чтобы создать шедевр, достаточно расставить на концах стихов или полустиший антонимы, словно алгебраические знаки в уравнении. Мало того, людей издавна восхищало искусство, с каким Вергилий, Корнель или Расин сочетают слова, искусство поистине чудесное, ибо в основе его лежали гениальные прозрения, а не смехотворные потуги честолюбия. Так вот, то, что у великих было счастливой находкой, сделалось у их последователей повседневной забавой. Нынче вся премудрость состоит в том, чтобы вопреки здравому смыслу ставить рядом выражения, не имеющие друг с другом ничего общего, и подбирать к каждому слову такое определение, о каком прежде никто не мог и помыслить. Газеты захлебываются от восторга, Академии не успевают награждать баловней фортуны, сыплющих редчайшими поэтическими находками, и никто не осмеливается последовать примеру Альцеста и сказать им:
Игра пустая слов рисовка или мода.
Да разве, боже мой, так говорит природа? [69]
Вся эта мишура приводит на память посланцев варварских племен — они являлись римскому сенату в золоте и жемчугах, но разве часто могли они похвастать красноречием, достойным красноречия крестьян с Дуная {237} ? Расин писал стихи очень простые, хотя и полные самых возвышенных чувств, — нынче, когда стихотворцы шагу не могут ступить без мелиндской слоновой кости и офирского золота {238} , никто не осмеливается ему подражать. Конечно, современные языки насчитывают от шестидесяти до восьмидесяти тысяч слов, и из них можно составлять подобные сочетания до бесконечности; однако это не прибавит жизнеспособности поэтическим поколениям, ибо попрание законов поэзии губит и язык, и саму поэзию. Как бы там ни было, всякому понятно, что поэтам новой школы очень легко подражать; понятно и другое: тот, кто написал бы на них пародию в духе Мольера или Рабле, оказал бы литературе неоценимую услугу. Я припоминаю пародийное четверостишие, описывающее деревенского священника:
С индиговой волной, с лазурью любодейной
Его тугих чулков смешался цвет лилейный.
Но алебастр снегов неправду обличил:
Их лживый блеск своим он тотчас помрачил,
и сожалею, что его остроумный автор так скоро прекратил свои насмешки, ибо создатели нынешних буриме заслуживают такой же суровой взбучки, какую задал когда-то своим современникам Сарразен [70] {239} . А пока наши стихотворцы наперебой пишут пародии сами на себя; иначе не назовешь эти три или четыре сотни жалких поэмок, сочиненных, кажется, одним и тем же автором, по одному плану и, более того, на одни рифмы, поэмок до того одинаковых, что разобраться, какая кому принадлежит, невозможно, и Академия, не решаясь отдать предпочтение кому-то одному, делит свое восхищение между двумя десятками поэтов. Сомневаюсь, чтобы Буало и Расин, живи они в наше время, разделили бы это восхищение.
Столь же примечательные изменения произошли в прозе; мастеров стилизации ждет здесь обширное поле деятельности. Создается впечатление, будто язык, в который Монтескье вдохнул столько ума, Бюффон — столько величия, а Руссо — столько красноречия и пыла, вдруг перестал удовлетворять новое поколение литераторов, и оно сменило его на какой-то другой, который потрясает воображение, но ничего не говорит уму, и в котором
Есть слова и звуки {240} , и ничего более.
Прежде всего прозу стали облагораживать, но не посредством мудрых мыслей и точных выражений, как то делали великие мастера, а с помощью некоего поэтического лака, совершенно чуждого ее характеру, с помощью насильственных инверсий и изысканного колорита, который изменяет ее облик, но не украшает его. Боссюэ, который, размышляя о возвышенном, часто обращался к священным книгам {241} и, можно сказать, напитал свои сочинения библейским слогом, порой употреблял во множественном числе слова, которые, как правило, употребляются лишь в единственном, чем придавал фразе благолепие и торжественность. Эта маленькая хитрость так полюбилась нашим новоявленным гениям, что быстро набила всем оскомину. Из высокой прозы были изгнаны все существительные в единственном числе, да и множественное число отныне появлялось чаще всего в собирательном значении: если гремел гром, то непременно разверзались хляби небесные, если трепетал зефир, то непременно среди всех пустынь, если поминались берега, то непременно всех морей [71] {242} .
Читать дальше