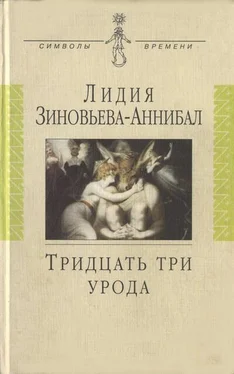Но и это неважно. А то важно, что шла за тобою на подвиг, а когда час твоего подвига пришел — покинула тебя. Это не потому, чтобы решимости в сердце не хватило, а потому, что вера в человеческое строительство не зажгла каждой единой моей кровиночки до конца…
Все же помнишь рубец на моей шее от братниной бритвы? Значит, больно же мне было тогда, девушкой еще, вдруг понять и так вдруг глубоко застыдиться. Ну, а каково же теперь, когда сама себя перестала понимать и за все себя казнить должна?
Сама себя перестала понимать, вот что ужасно, и все от нее, этой кошки. Слушай. Вот мое открытие, что есть зло непоправимое. Потому что с людьми ведь как-нибудь можно же, в конце концов, устроить. Было бы только побольше таких работников верных и не оглядывающихся, как ты. А теперь выслушай про непоправимое. У нас ведь много завелось мышей, и я, в твое отсутствие, достала кошку. Я прежде кошек не любила, т. е. не заинтересовалась. А к этой кошке очень привыкла и полюбила.
Недавно она окотилась. Пять котят. Четырех я на третий день захлороформировала. Это очень легкая смерть. Кошка как-то глухо скучала. Прибежит, уставится на меня такими янтарными глазами и мяукает жалко и зазывно как-то. Не умею лучше сказать. Я ей положу котенка пятого к соскам, она и успокоится. Вдруг услышит — за кухонной дверью завопил кот — и прыгнула к нему. Значит, еще в скором времени будут котята, и потом еще, и так, если не хлороформировать, то пятнадцать в год! А вчера мышь поймала, и я долго не могла разобрать, кто пищит у нее в зубах — котенок или мышь. Кошка ведь в зубах и котенка своего слепого таскала. И мне стало страшно. Одного слепо, глухо любит, как в глухом сне, другого мучает и пожирает, также в глухом сне. И толкает желание во сне, как толчки родов, как судороги смерти…
Я так подумала: вся природа в глухом сне. И стало страшно. Все глухо любит себя и глухо пожирает не себя. Глухо вспыхивают жизни, глухо потухают. И что пришло — пройдет, и что любилось глухо — забудется мертво. Мне так ясно почудилось: мир весь и человек в нем, как заколдованный, но все, что живо, — согласно с чарами глухого сна.
Только вот есть в человеке еще что-то несогласное. И это тем хуже, потому что ведь большею-то своей частью человек принадлежит этому сну, природе заколдованной. И все, что в нем живучее, земное, хлебное, телесное, прекрасно-телесное и желающее, — все от нее, от природы и ее сна. И наши усилия к тому только направлены, чтобы рамки выстроить, такие рамочки, как, например, восковые соты, чтобы никто в своей сотинке другому в его сотинке не вредил, и тогда будет общественное благополучие и каждому в своей сотинке свобода личности.
Но так как хотя и самая маленькая крупиночка, а все-таки есть, что не от мира сего, в человеке-то, когда так все притихнут в своих благополучных ячейках, то, думаю я, и услышат, как нестерпимо в тишине той громко мяукнет, жалко и зазывно, кошка и глянет на того благополучного человека покорными из сна глазами… Глянет на человека покорное из его сна — его непоправимое одиночество… И человеку от той непокорной крупиночки не усидеть тогда в своем слепом благополучии.
И что тогда сделать ему? Как же человеку расколдовать кошку, чтобы она увидела прозревшего котенка, и затисканную мышь, и меня — свою сестру бедную — человека? И чтобы человек, и кошка, и мышь нашли слово такое, чтобы расколдовать себя (потому что крупица, которая не от мира сего, как самый крепкий яд в крови!), и чтобы огонь-то не от этого мира, который позволяет, который даже приказывает мне осудить и отрицать все, что не от огня моего, моего человеческого, неприродного, нетелесного, нехлебного, не желающего, не опаляющего красоты нездешней, — чтобы огонь мой разбудил своим звоном мир?..
Ах, видишь, я запуталась. Все должно быть ясно, чтобы работать плодотворно. Знаю. Вот еще немножко побуду одна. Я похожу одна. Выйду на берег и пойду по России {86} . Буду помогать руками людям, и чтобы ни один закат не повторялся мне на том же ночлеге. Буду нищею. И все разберу в себе. Как это сделать, чтобы не было в человеке двух частей: одной — в заколдованном сне, другой — в безумной, но незаглушимой борьбе за невозможное?
А ты лучше меня, ты…
На этот раз я решила обедать и пить утренний кофе в столовом вагоне.
Решила потому, что не имела в себе позыва снова ощутить то тягучее, глухое, знобящее истомление в совсем пустом теле, доставлявшее раньше какое-то тихое и очень изысканное сладострастие моим нервам, душе — молчание и полет.
Читать дальше