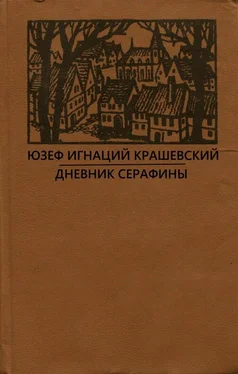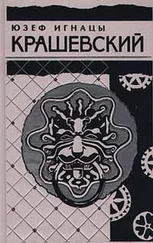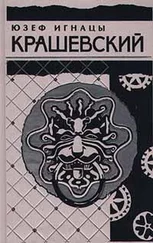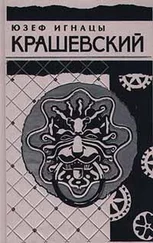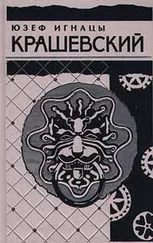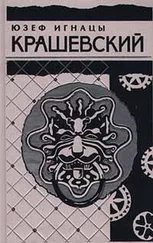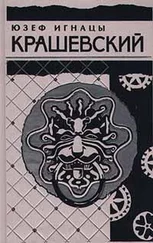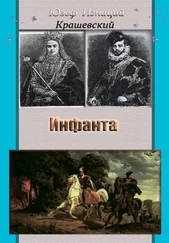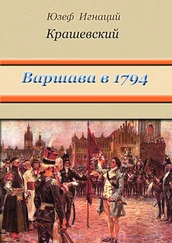Юзеф Крашевский
Дневник Серафины
(Dziennik Serafiny)
«Кому что на роду написано!..» — справедливо гласит старинное присловье.
Кто деньгу наживает, кто скупает золото и драгоценные камни, кто влиятельными связями да знакомствами обзаводится, а удел сочинителей — бумагомаранье. Это давно известно. Probatum est [1] Испытано (лат.).
. Во всяком случае, единственное достояние автора этих строк разные рукописи да заметки. Они повсюду попадаются на глаза, а то и мерещатся в виде человеческих физиономий, которые сами так и просятся на бумагу; они наполняют его сундуки, преследуют дома и в дороге, словом, не дают ни отдыху, ни сроку.
Судите сами. Отбросив в сторону всевозможные случаи, имеющие касательство к личной жизни (но тут не место писать о них, ведь это не автобиография), я расскажу лишь о том, как попал ко мне дневник Серафины. Видеть в этом волю провидения с моей стороны было бы, пожалуй, дерзостью, значит, это не что иное, как случай… Едва «Воспоминания паныча» [2] Роман Ю. И. Крашевского.
были переложены на родной наш язык, едва преложитель перевел дух и понемногу начал забывать о них, как, видимо, в наказание за сей некорректный поступок судьба покарала его мучительнейшим насморком, каковой и привел его в Виши… Он счел вынужденную эту поездку справедливым наказанием за то, что осмелился неблагосклонно отозваться о столпах нашего общества, блюстителях нравов и порядка.
По прибытии в Виши за грехи свои стал он пить тепленькую водицу и в уединении размышлять о содеянном. И раскаяние уже готово было смягчить его зачерствелое сердце… Происходило это хмурым утром 9 июня; под стать скверной погоде было и расположение духа… Выпив раз и другой по полстакана «Госпитальной» воды (L'Hopital), названной так, должно быть, в насмешку и словно нарочно предназначенной для сочинителей, пациент в поисках уединения прохаживался по безлюдным аллеям. Перед тем как принять ванну, следовало отдохнуть. Кстати, поблизости оказалась скамейка. Кругом ни души, цветущие (в том году раньше времени) липы источали сладостный аромат, кроны широколистных платанов образовывали над головой свод, который не пропускал пробивающихся из-за туч солнечных лучей…
Казалось, лучшего места для размышления о своих грехах не сыскать. Не слышно ни криков продавцов воздушных шаров («L'amusement des enfants, la tranquillite des parents!» [3] Детям забава, взрослым покой!
), ни призывов предприимчивых дельцов купить лотерейный билет, по которому можно выиграть оловянную ложку или склеенную из бумаги коробочку, ни громогласного владельца тира под названием «a la Revanche» [4] Реванш (фр.).
, приглашающего патриотов поупражняться в стрельбе из пистолета по искусно замаскированным швабским каскам. Скамейка была удобная и — что удивительно — не мокрая… Автор этих строк с блаженным чувством раскинулся на ней в полной уверенности, что здесь его не потревожит ни посторонний взгляд, ни женский щебет, ни людской гомон, как вдруг, пошевельнувшись, услышал зловещий шелест.
То был не человеческий голос, а преследующий его, знакомый шорох бумаги! Он испуганно повел глазами и узрел на скамейке смятую тетрадь и вторую, точно такую же, — на земле.
«Vade retro, Satanas!» [5] Отойди от меня, сатана! (лат.)
— вот первое, что пришло ему на ум, но не имея обыкновения поддаваться порывам чувств — кстати, от этого предостерегают нас не то Талейран, не то Меттерних — итак, первой и весьма благоразумной мыслью было тетрадь не трогать и, дабы не слышать искусительный шелест, как Одиссей, заткнуть уши и бежать отсюда…
Но тут глаза… глаза, сгубившие столько людей, остановились на листках бумаги (верней, рукописи), валявшихся на мокром гравии дорожки, — смятые, с загнутыми краями, они говорили о полном к ним небрежении. Сострадание и вместе любопытство овладели сердцем… И рука невольно потянулась к таинственному манускрипту, брошенному на произвол судьбы и… весеннего ненастья. С первого же взгляда можно было узнать женский почерк: мужчинам так писать не дано; исполненный изящества, он выказывал пылкость и одновременно некую робость, словом, те приметы, которые пленяют мужские сердца и взоры.
Оба манускрипта были писаны, наверно, в разное время и в разных условиях — то размашисто, то убористо, то водянистыми чернилами, то густыми и почерком таким неровным, точно несколько рук, а не одна водили пером по бумаге — столь несовместимые черты характера он выдавал. Видимо, это был дневник, и самое поразительное и непостижимое состояло в том, что принадлежал он нашей соотечественнице, само собой разумеется, написанный вперемежку по-польски и по-французски, ибо французский язык настолько вошел в наш обиход, что без него не может обойтись ни один уважающий себя человек.
Читать дальше