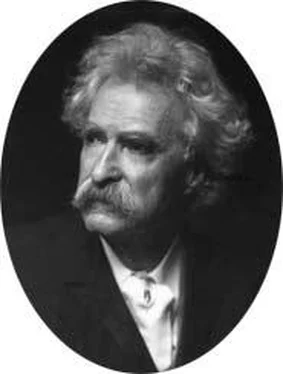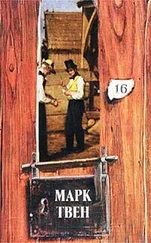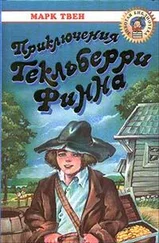КАК ПОДШУТИЛИ НАД АВТОРОМ В НЬЮАРКЕ
Едва-ли кому-нибудь приятно рассказывать о том, как его одурачили, но иногда такая исповедь приносит человеку некоторое облегчение. Я хотел бы этим способом облегчить теперь мою душу, хотя мне и кажется, что к этому побуждает меня больше стремление осудить другого, чем желание излить бальзам на мое удрученное сердце. (Собственно говоря, я хорошенько не знаю, какой это такой «бальзам», так как никогда не лил его, но думаю, что это выражение здесь кстати).
Может быть, читатель не забыл еще, что я не так давно читал в Ньюарке лекцию для молодых членов N-N-скогообщества; да, я сделал это. Накануне назначенного дня, после обеда, я беседовал с одним из молодых людей этого общества, и он рассказал мне, что у него есть дядя, который, по той или иной причине, кажется теперь навсегда лишенным способности как бы то ни было проявлять свои ощущения. И со слезами на глазах этот молодой человек говорил мне: «О, если бы хоть раз еще я увидел, как он смеется! О, если бы я увидел, как он плачет!» Я был тронут; я никогда не мог противостоять искушению.
И я сказал: «Приведите его ко мне на лекцию. Я его вам оживлю».
— О, если бы вы могли сделать это! Если бы могли… вся наша семья вечно благословляла бы вас: он так нам дорог! О, мой благодетель, неужели вы в состоянии заставить его рассмеяться или извлечь облегчающая слезы из этих померкших глаз?
Я был глубоко взволнован: «Сын мой, — сказал я, — приведите с собой вашего старика. У меня в лекции есть парочка острот, которые должны вызвать у него смех, если только у него существует еще грудобрюшная преграда; в противном случае я, с вашего позволения, испытаю на нем действие нескольких других, которые или заставят его заплакать, или убьют на месте, — одно из двух». Молодой человек, рассыпаясь в благодарностях, разрыдался у меня на шее и отправился за своим дядей. Он усадил его как раз против меня во втором ряду и я принялся его обрабатывать. Сначала я пробовал пронять его тонкими остротами, а затем и более толстыми; я вгонял в него грубые шутки и пронизывал его изящными; я выпаливал в него залпом старых избитых каламбуров и прободал его спереди и сзади блестящими новыми; я разгорячился и штурмовал его и справа, и слева, и с фронта, и с тыла; я пыхтел и потел, надрывался и неистовствовал, пока, наконец, охрип, осип, рассвирепел и обозлился… И, все-таки, мне ни разу не удалось задеть его за живое. Я не мог извлечь из него ни усмешки, ни слезинки! Ни даже тени смеха, ни намека на влагу! Я был поражен почти до потери сознания и закончил лекцию отчаянным криком, диким взрывом юмора, бросив ему прямо в лицо остроту сверхчеловеческой силы! Затем, утомленный и разбитый, я опустился на стул.
Председатель общества подошел ко мне, смочил мне голову холодной водой и спросил:- Отчего собственно вы казались таким возбужденным в конце лекции?
Я ответил:- Мне хотелось во что бы то ни стало рассмешить этого проклятого старого дурака, вон там, во втором ряду.
— Ах, вот что! — сказал он. — Но, в таком случае, вы совершенно напрасно старались: он глух, нем и слеп, как филин!
…Я бы хотел теперь знать, гуманно-ли было со стороны племянника того старого человека разыграть такого дурака из меня, чужестранца и сироты? Я спрашиваю тебя, читатель, как человека и брата, разве это было красиво с его стороны?
1872