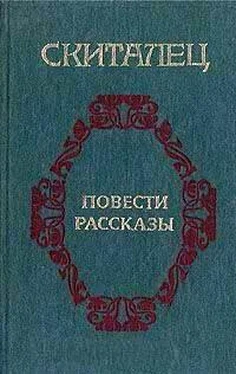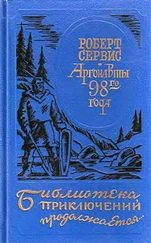Тогда призвали к закуске мужчин, и мужчины плотно засели за длинным столом, уставленным тарелками, бутылками и закуской. В мужском обществе осталось несколько женщин.
От выпивки настроение несколько поднялось, и загудел общий говор.
В самый разгар закуски в дверях столовой появился пьяный литератор Небезызвестный под ручку с Толстым, облеченным в сюртук Северовостокова.
Небезызвестный сделал театрально-торжественный жест и провозгласил своим резким голосом:
— Дорогие мои, р-рекомендую: мой старый товарищ… петербургский фельетонист… только что приехал!..
«Петербургский фельетонист» взглянул на своего товарища.
Один только миг на лице Толстого мелькнуло изумление, потом ирония, а в следующий момент он уже заговорил с милой любезностью путешествующей знаменитости:
— Господа, прошу, пожалуйста, меня извинить… что я так… запросто… хе-хе… прямо с дороги.
Его внушительная фигура и красивое, выразительное лицо сразу произвели на всех выгодное впечатление.
Новым гостям тотчас же дали место за столом. На «петербургского фельетониста» все устремились, все думали: «Так вот кого преподнесли нам сегодня!..»
На «интересную личность» сразу насели. Приезжего закидали вопросами. Около него тотчас же образовался кружок.
Толстый врал артистически. Выпивая и закусывая, он отвечал на все стороны и тотчас же обнаружил своеобразное остроумие.
Его «словечки» уже начинали вызывать смех и невольное восхищение.
Сразу было видно замечательного фельетониста. По всем общественным вопросам он был в курсе дела, все знал из первых рук, обо всем судил смело и оригинально, не допуская возражений. Он бывает «запросто» у всех петербургских знаменитостей, знает много интересного из их прошлого и настоящего. А чем пахнет теперь в Петербурге? О! Это ему прекрасно известно: пахнет очень и очень интересными вещами… Но, к сожалению, он должен быть немножко конспиратором… Он приехал сюда по одному конспиративному делу… небольшое поручение общественного характера. Во всяком случае, в Петербурге все идет на повышение… Жизнь растет… Заря занимается…
Ножи и вилки стучали. Рюмки и бокалы звенели. Гости оживились. В столовой гудел общий говор.
Из зала привалила еще толпа, под предводительством бледной дамы в шикарном костюме, с пышными белокурыми волосами и с гитарой в руках.
— Божественно! восхитительно! чудно! — говорили ей изящные, «фрачные» кавалеры.
Дама улыбалась.
Она как-то особенно ухарски села на стул перед пьющей и закусывающей публикой и заиграла на гитаре цыганский романс.
Дама изображала из себя «цыганку» и запела с деланной, преувеличенной страстностью, растягивая мотив и как бы изнемогая.
3-за-ха-чу — пал-лю-балю!
3-за-ха-чу — ра-залюба-лю!
И вдруг, всей рукой ударяя по струнам, выкрикивала дикий припев:
Я — как пташка вольна…
Жизнь на радость нам дана!
Около нее сладострастно млели несколько товарищей прокурора, напоминая голодных собак, сидящих у дверей кухни, хотя в даме не было ничего ни цыганского, ни соблазнительного.
запела она, снова ударив по струнам.
А около «петербургского фельетониста» все более и более увеличивалась толпа слушателей.
Наконец, и дама прекратила цыганские песни и вместе с другими стала заглядывать через чужие плечи на интересную фигуру. «Литератор» говорил тихо, и только по взрывам дружного смеха можно было судить, что речь его остроумна.
Общий говор затих, и тогда в столовой стал раздаваться только один голос «петербургского фельетониста»:
— …Да, господа! если бы вы знали, как хочется иногда встретиться и наговориться с читателем-другом, с невидимкой, с этой фантазией писателя!
В поздние ночные часы, при свете рабочей лампы, являлся в былое время его задушевный образ пред измученным взором писателя и одним своим видом прибавлял ему силы и бодрости. Он был молчаливой тенью, в которую верил писатель.
Изредка и одиноко мелькая перед ним, друг-читатель делал ему таинственные, ободряющие знаки, — и он писал… Сердце его горело ярче, а из-под пера смелее лились горячие строки.
Но зато сильнее разгоралась ярость живого, настоящего читателя, читателя-врага, и тогда печальная, носочувственная тень скрывалась и молчала.
Но жизнь все-таки шла вперед, она росла вширь и вглубь, и уже никакие силы не могли остановить ее роста.
И вот писателю стало чудиться, что бодрое слово, которое иногда вырывалось на волю из глубины его пришибленной души, сказанное его одиноким, надорванным голосом, повторяется где-то волшебным невидимым хором, вызывает далекий, но могучий отклик, перекатывается, словно чудодейственное эхо в сказочных горах.
Читать дальше