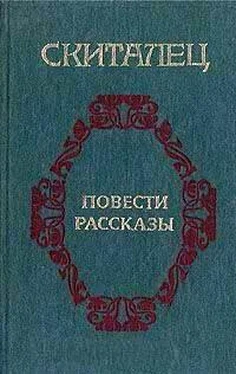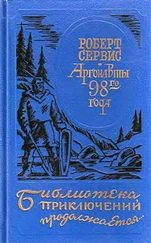И они ходили в сад.
Огарки ненавидели это место общественного гулянья, где, казалось, каждый куст был засален и захватан «публикой», но тем не менее, томимые скукой, оторванностью от жизни и однообразием своего отброшенного существования, ходили туда каждый вечер.
Там они прятались от людей в темной поперечной аллее, где почти всегда никого не было, садились все в ряд на длинную скамейку и слушали музыку струнного оркестра, звуки которого мягко доносились к ним с вышки курзала.
Они не знали названий пьес, исполняемых оркестром, но многое из его репертуара слушали в сотый раз и знали мелодию наизусть.
И была у них любимая пьеса, так же, как и прочие, неизвестная им, которую они называли «прорезающая».
Каждый вечер дожидались они, когда оркестр заиграет ее, и упивались чьей-то удивительной музыкой.
Иногда они выходили из своей аллеи к курзалу, где на веранде, за столиками, накрытыми белой скатертью, пила и ела разодетая чистая публика, а мимо по главной, ярко освещенной электричеством аллее медленно двигалась густая толпа гуляющих, такая же чистая, нарядная, затянутая и шуршащая, как и та, которая ела на веранде.
И огарки становились в ряд, как раз против веранды, наполненной ужинающими, и лицом к лицу с бесконечной вереницей гуляющей нарядной толпы.
Прислонясь к фонарному столбу или изгороди, долго и угрюмо смотрели они на все происходившее перед их глазами и стояли как укоризненные, голодные тени.
Всматриваясь в мелькающие физиономии толпы, они словно хотели узнать, чем эти люди, прилично одетые, имеющие деньги, жен, счастье, выше и лучше их, огарков, ничего из благ жизни не имеющих.
И все эти без конца сменявшиеся лица сливались, наконец, в их глазах в одну огромную, скверную, скотскую рожу, безобразно самодовольную, низменную и неприхотливую, поразительно ко всему равнодушную, не слышащую за своим гвалтом чудной музыки.
И огарки чувствовали себя выше толпы.
Им казалось, что если бы они когда-нибудь попали в это общество, живущее в роскошных квартирах, где звучат струны рояля, где женщины красивы, образованны, нежны и выхоленны, то непременно были бы там интереснее других, умнее, остроумнее, лучше всех. Но они презирают это общество. Они там издевались бы.
Презирая сытую толпу, огарки все-таки с завистью смотрели на еду сидящих на веранде, на рюмки, на бутылки, на золотистое пенистое пиво.
Если в этот момент в гуляющей толпе мелькал высокий Митяга в своем новом картузе, — Сашка, как самый дерзкий из огарков, открывал на него охоту: выждав, когда Митяга доходил до конца аллеи, Сашка внезапно появлялся из-за куста и, не говоря ни слова, срывал с головы Митяги знаменитый картуз, подбитый красными убеждениями.
— Дав сюда пол-лика! — говорил он Митяге, держа картуз за спиной.
Чтобы скорее отвязаться от огарка, скупой Митяга, растерявшийся и негодующий, ворча ругательства, быстро вынимал кошелек и вносил выкуп за свои убеждения.
С пол-ликом огарки отправлялись в дешевую, грязную пивную Капитошки.
Там, за пятью бутылками пива, они давали волю своему сарказму. В душе их поднималась бессознательная едкая горечь, обида и отчаяние, но выливалось все это в крепкое, ядреное остроумие и бесшабашную удаль, — они словно хотели сказать кому-то: «Вы считаете нас пьяницами, кабацкими личностями, ну, так вот смотрите: мы действительно такие, думайте о нас именно так, — нам на это наплевать!»
Толстый сыпал самыми неожиданными сравнениями, меткими убийственными словечками, и фракция топила свою горечь в громозвучном смехе, а тоску — в пиве.
Знакомство огарков с Павлихой началось еще в первые дни появления их в городе, когда они бродили в одиночку в поисках работы, как голодные собаки. Можно сказать, что цементом фракции была Павлиха.
Один по одному, по какой-то роковой случайности, собрались они в ее «вертепе» — голодные, грязные, измученные.
Квартирная хозяйка, у которой столовались рабочие из мастерских, она каждого из них обласкала, накормила, словно не замечая того, как они опустились.
Она так славно улыбалась каждому новоприбывшему, как будто бы невесть какой клад к ней свалился.
У нее была незлобивая, детски доверчивая душа. Всю жизнь от рождения до старости судьба жестоко била Павлиху, словно насмехалась над ней, а Павлиха так и не озлобилась на судьбу, продолжая быть преисполненной доброты и того сердечного жаления людей, которым отличаются деревенские женщины.
Читать дальше