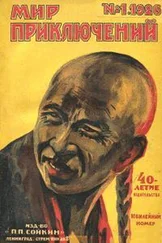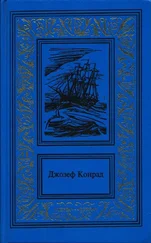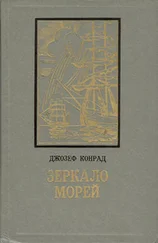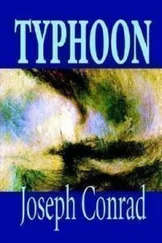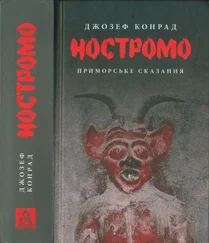Он помолчал и произнес еле слышно: «Впрочем, они могут очень далеко завести».
Сзади, за их спинами, нарастал гул голосов, это вздымался прилив политических страстей, который каждые двадцать четыре часа заполнял гостиную Гулдов. Гости приходили по одному, по двое, по трое: высшие чиновники провинции, железнодорожные инженеры, загорелые, в твидовых костюмах, и их шеф, с седеющей головой, улыбался снисходительно и добродушно, глядя на оживленные молодые лица. Скарф, большой любитель фанданго, уже улизнул выяснить, не устроили ли где-нибудь на окраине танцевальный вечер. Дон Хусте Лопес отвез домой дочек и сейчас торжественно входил в гостиную в черном отутюженном сюртуке, застегнутом на все пуговицы, причем они были закрыты его окладистой каштановой бородой. Несколько членов Законодательной Ассамблеи тотчас сгрудились вокруг президента, дабы обсудить военные известия и последнее воззвание бунтовщика Монтеро, призывающего во имя «справедливо возмущенной демократии» Законодательные Ассамблеи всех провинций отложить на время заседания, покуда меч его не установит в стране мир, и народ сможет изъявлять свою волю. Практически это призыв к гражданской войне: он неслыханно обнаглел, злодей, безумец.
Особенно негодовали депутаты Ассамблеи, столпившиеся за спиною Хосе Авельяноса. Дон Хосе, возвысив голос, кричал им из-за спинки кресла: «Сулако уже ответил им сегодня армией, которая ударит с фланга. Если все остальные провинции проявят хотя бы половину патриотизма, который мы, западный люд…»
Крики одобрения заглушили дребезжащий дискант человека, олицетворяющего жизнь и душу партии. Да, да! Верно! Удивительно верно! Сулако, как всегда, впереди! Громкоголосая кичливость, порожденная надеждой, которую события дня заронили в сердца этих кабальеро, полных тревоги за свои стада, свои земли, безопасность своих семей. Все поставлено на карту… Нет! Монтеро не победит ни в коем случае. Этот злодей, этот бессовестный индеец! Пошумели, покричали, причем каждый посматривал в ту сторону, где стоял дон Хусте, с видом беспристрастным и торжественным, словно председательствовал на заседании Ассамблеи. Декуд обернулся на шум и, прислонившись к подоконнику, гаркнул во всю силу своих легких: «Gran bestia!»
Шум в гостиной сразу утих. Все взгляды обратились в сторону оконной ниши, благожелательно и выжидающе, но Декуд уже вновь повернулся к гостиной спиной и, опершись на подоконник, смотрел на безмолвную улицу.
— Кульминация моей редакторской деятельности; неопровержимый аргумент, — сказал он Антонии. — Я изобрел этот термин, последнее слово в великом споре. И все же я не патриот. Я не в большей степени патриот, чем капатас наших каргадоров, этот генуэзец, так искусно заправляющий делами в порту, — провозвестник материальных атрибутов нашего прогресса. Капитан Митчелл ведь неоднократно сознавался, что до того, как появился этот человек, он никогда не мог сказать, сколько времени потребуется для разгрузки судна. Бедный прогресс! Вы видели сейчас, как после праведных трудов этот человек проехал на своей знаменитой серой кобыле, направляясь в какую-нибудь бальную залу с земляным полом, где он будет кружить головы девицам. Счастливец! Работая, он использует свои способности; досуг состоит в том, что он выслушивает похвалы, в которых его превозносят до небес. И ему все это нравится. Ну, можно ли быть более счастливым? Тебя боятся и тобой восхищаются…
— Это предел ваших мечтаний, дон Мартин? — перебила Антония.
— Я говорил о людях такого рода, — сухо ответил Декуд. — Герои всегда и везде внушали страх и восхищение. Чего еще можно желать?
Декуд уже не раз замечал, как его саркастические суждения разлетались в прах, наткнувшись на серьезность Антонии. В нем шевельнулось раздражение, ему почудилось, что и она подвержена той ничем необъяснимой женской бестолковости, которая у заурядных людей так часто мешает ясности отношений. Но он тут же подавил досаду. Он никак не мог считать Антонию заурядной, хотя достаточно скептически относился к себе, чтобы вынести своей особе любой приговор. В его голосе прозвучала глубокая нежность, когда он возразил ей, что мечтает лишь о блаженстве столь возвышенного свойства, что оно едва ли достижимо на земле.
Она вспыхнула невидимым в темноте румянцем, таким жарким, что его не мог охладить долетавший с гор ветер, — возможно, там внезапно растаял снег. Жаркий шепот Декуда вряд ли был причиной таяния снегов в горах, но, уж конечно, растопил лед ее сердца. Она быстро повернулась, словно ей захотелось немедленно унести произнесенное шепотом признание в ярко освещенную гостиную.
Читать дальше