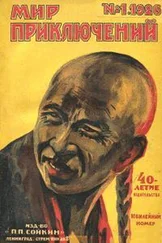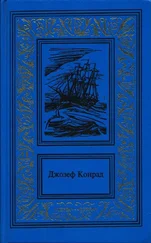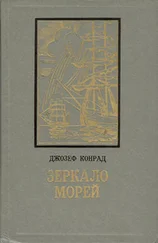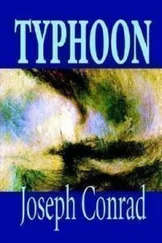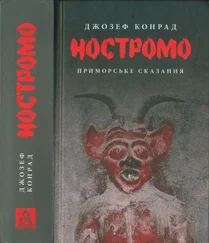Он говорил все тем же легкомысленным тоном, а она стояла неподвижно, словно не замечая его присутствия, сложив руки и придерживая пальцами веер. Он помолчал немного, подождал.
— Придется становиться к стенке, — произнес он с шутливой безнадежностью.
Но и эти его слова не заставили ее взглянуть на него. Она не повернула головы, и ее глаза все так же пристально разглядывали дом Авельяносов, теряющий достоинство дом, признаки обветшания которого — начавшие крошиться пилястры, сломанные карнизы — постепенно исчезали в сумерках. Она стояла совершенно неподвижно, и шевелились только ее губы:
— Мартин, я сейчас запла́чу.
Он молчал, ошеломленный, холодея от счастья, и глаза его выражали изумление, недоверчивость, а на губах застыла ироническая улыбка. Не важно, что вам говорят, а важно, кто это сказал, ибо нет уже ничего нового, что могли бы сказать друг другу мужчина и женщина; а он не ждал подобных слов от Антонии, чего-чего, но такого не ждал. Они пикировались неоднократно, но впервые она была с ним столь откровенна. Не успела она повернуться к нему, неторопливо, с величавой, строгой грацией, как он умоляюще заговорил:
— Моя сестра ждет не дождется, когда она наконец сможет обнять вас. Отец будет счастлив. О матери я просто не говорю. Наши матери были как родные сестры. Мы можем немедленно уехать — на той неделе на юг отходит почтовый пароход. Уедем сразу же! Ваш Морага болван. Монтеро нужно было подкупить. В этой стране только так и делают. Такова традиция… такова политика. Почитайте «Пятьдесят лет бесправия».
— Оставьте бедного папу в покое, дон Мартин. Он искренне верит…
— Я с величайшей нежностью отношусь к вашему отцу, — торопливо перебил он. — Но я люблю вас, Антония! А Морага удивительно бездарно вел дела. Да и отец ваш, похоже, плоховато распорядился. Монтеро следовало подкупить. Подозреваю, он всего-навсего хотел урвать свою долю от знаменитого займа для развития нации. Почему эти олухи из Санта Марты не сделали его послом где-нибудь в Европе или не отдали ему что-нибудь на откуп? Он взял бы жалованье на пять лет вперед и прожигал бы жизнь в Париже, тупой и свирепый индеец!
— Этот человек, — рассудительно и спокойно отозвалась она на яростную вспышку собеседника, — буквально отравлен тщеславием. Мы получаем сведения не только от Мораги, у нас есть и другие осведомители. А его брат тоже плетет интриги.
— Да, конечно! — воскликнул он. — Ну, разумеется, вам все известно. Вы же читаете всю корреспонденцию, вашей рукой написаны все документы… все государственные документы, идея которых возникла тут, в этой гостиной, вдохновленная слепым почтением к теории политической непорочности. Ведь у вас всегда перед глазами Чарлз Гулд. Король Сулако! И он, и его шахта свидетельствуют, чего можно достичь. Вы полагаете, он преуспел потому, что всегда неуклонно следовал по стезе добродетели? А все эти строители… как честно они трудятся! Ну, разумеется, они трудятся честно. Но как быть, если нельзя честно трудиться, не удовлетворив все притязания бандитов? Он что, не мог растолковать сэру Джону Как-Там-Его-Кличут, что от Монтеро нужно откупиться, и от Монтеро, и от негров либералов, уцепившихся за его расшитый золотом рукав? Откупиться, дать ему столько золота, сколько этот дурень весит… вот сколько весит, столько золота ему и отвалить, и сапоги его туда же прибавить, и саблю, и шпоры, и шляпу набекрень, словом, все.
Антония покачала головой. «Это было невозможно», — еле слышно прошептала она.
— Он потребовал все? Да?
Теперь она наконец повернулась к нему и стояла в глубокой нише окна, очень близко и все так же неподвижно. Ее губы торопливо шевелились. Декуд, прислонившись к стене, слушал, скрестив на груди руки и опустив глаза. Он впитывал в себя все интонации ее ровного голоса, улавливал волнение в его горловых звуках, ему казалось, что ее полные здравого смысла слова плывут по воздуху, подхваченные волнами рожденного в сердце чувства. И у него были стремления — он стремился вырвать ее из затхлого мира всех этих реформ и воззваний. Их усилия напрасны, напрасны; но она околдовала его, и он слушал, очарованный ею, а иногда неопровержимая убедительность какой-нибудь фразы вдруг рассеивала чары, и он невольно ощущал уже не силу ее обаяния, а острый интерес. Некоторые женщины, размышлял он, подходят к самому преддверию гениальности. Им не нужно ни знать, ни думать, ни понимать. Страсть заменяет им все это, и он готов был поверить, что сделанное ею какое-нибудь глубокое замечание, оценка характера какой-либо личности или суждение о каком-то событии находятся на грани чуда. В Антонии, в повзрослевшей Антонии, проглядывала поразительная пылкость той непримиримой школьницы, которую он знал когда-то. Она полностью овладела его вниманием: порой он неохотно соглашался с нею; по временам вполне серьезно ей возражал. Мало-помалу они начали спорить; занавесь почти скрывала их от сидевших в зале.
Читать дальше