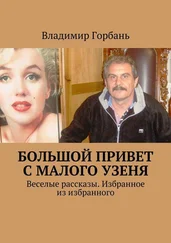Подчас я ловлю себя на том, что, когда меня спрашивают о годах, мне хочется назвать цифру, лет на десять или пятнадцать завышающую истинный мой возраст. Не только в конце года, но и при смене его времен мне кажется, что минул полный год. А помимо того, существуют праздники, разные там пасхи, дни именин. По мне, все это тоже самостоятельные единицы времяисчисления: знай скачет и мелькает карандаш, и этот счет не поддается проверке.
Не будь за мной присмотра, иначе говоря, если бы жена не поправляла меня постоянно — на людях или с глазу на глаз, — я давно бы объявил всем, что мне полтораста или добрых две сотни лет. Я убежден, что ошеломляющий нас сверхпреклонный возраст ветхозаветных старцев — Мафусаила и иже с ним — объясняется не тем, что тогда по-иному вели отсчет лет, а тем, что не вошло тогда в обычай — и едва ли были к тому возможности — с дотошностью нашего времени подсчитывать годы, прожитые отдельным человеком. А потому легко представить, что, когда их все же спрашивали о возрасте, старцы, отчасти произвольно, а отчасти имея на то свои основания, называли поистине астрономические цифры прожитых лет, в слаженном соперничестве друг перед другом уподобясь скакунам у финиша.
Особого воображения тут не требовалось — довольно было окинуть взглядом окрестные шатры, табор кровных отпрысков, меж которыми были и старцы с длиннейшими седыми бородами, деды их правнуков!
Я уважаю в женщинах и признаю за ними своего рода экстерриториальное право, с каким они — каждая в меру своего темперамента — манипулируют отсчетом прожитых ими лет. Хотя я не разделяю этих их чувств. Переоценивая силу календарных лет, заранее страшась погрома, чинимого временем, они стремятся удержать свой возраст в деспотических шорах. Я тоже склонен претендовать на право экстерриториальности возраста. Но стою на противоположном полюсе. Можно ли пренебречь столь редкой ситуацией: говорить и чувствовать, что тебе идет двести семидесятый год, и одновременно, полуобернувшись, с искушенностью библейского Авраама провожать взглядом какую-либо юную даму! Кто способен в возрасте четырехсот двадцати лет с первыми лучами солнца отправиться на озеро или в бассейн, чтобы поплавать вдосталь да при этом еще разок-другой нырнуть головой вперед? Тот, кто достаточно умен, чтобы за мыслями о времени не забывать себя. Нужно ли еще тратить слова в защиту относительности времени как мироощущения?
Коль скоро эскулапы постигли искусство заменять почти любой из органов человеческого тела, бессмертие в принципе достигнуто: ставишь запасную часть, и вся недолга. А уж когда врачи научатся заменять сознание и в особенности память! Еще один виток в истории человечества, возможно, что на свет появятся младенцы с запасом жизни лет в триста как минимум. Однако велик ли будет выигрыш, если и эти долгие годы люди станут считать-пересчитывать с той же навязчивой скрупулезностью? А для чего? Чтобы еще того дольше метаться в панике, чтобы дольше мучить себя страхом смерти.
Стало быть, засорившийся мундштук надо продуть с другого конца. Не время должно довлеть надо мною, а я — полновластно распоряжаться временем, и, понятное дело, как можно дольше.
Расположимся на очень низком сиденье, к примеру, в провисшем чуть ли не до пола шезлонге, ненадолго расслабим мускулы и затем попробуем рывком подняться на ноги. Пока мы дергаемся, пытаясь выкарабкаться, с лица у нас не сходит улыбка.
Та же улыбка, как если бы кто-то, стоя позади шезлонга, удерживал нас за плечи. Конечно же, этот кто-то — один из приятных нам людей. Или как если бы тот же человек, подкравшись со спины, ладонями прикрыл наши глаза — в шутку, чтобы на секунду мы ослепли.
И чем настойчивее наши попытки тотчас же с детской резвостью вскочить на ноги, тем шире, лучезарнее становится наша улыбка. Можно подумать, что игра лицевых мускулов находится в прямой зависимости от мышц ног и спины. Как в народном поверье, будто бы рябь и пенистые гребешки на поверхности горных озер как-то связаны с волнением океанов. Внизу — буря и, возможно, кораблекрушение, а наверху, в горах, — всего лишь переливчатый отблеск водной глади.
Но вот мы и встали. Ничего, что слегка запыхались, лицо наше светится торжеством, иной раз даже вырвется легкий смешок. Как бы в самооправдание. И не только перед другими. Перед самим собой тоже. Над чем же мы в таком случае потешаемся?
У смерти свой юмор. С точки зрения подростка, неожиданный тычок или каверзная подножка — верх остроумия. Шутки смерти не менее плоски: она подкрадывается к нам исподтишка, играя с нами то ли в прятки, то ли в жмурки. Но отчего же мы втягиваемся в эти забавы, место которым разве что на школьном дворе? Играя в чехарду и пританцовывая, приближаемся мы к собственной кончине. Самое время одуматься и стать серьезнее.
Читать дальше
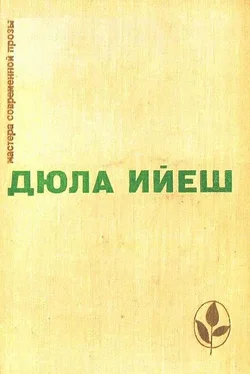


![Вержилио Ферейра - Избранное [Явление. Краткая радость. Знамение — знак. Рассказы]](/books/33192/verzhilio-ferejra-izbrannoe-yavlenie-kratkaya-rados-thumb.webp)