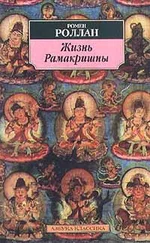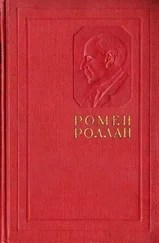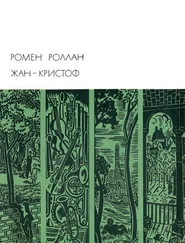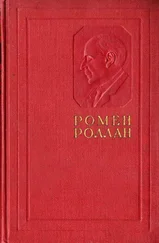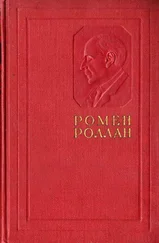В этот самый момент, в ту самую секунду, когда сознание вновь выплыло из бездны, взгляд его встретил на противоположной стороне улицы чей-то хорошо знакомый взгляд, который как будто призывал его. Кристоф в изумлении остановился, припоминая, где он видел эти глаза. Только через несколько секунд он узнал этот нежный и печальный взор: то была учительница-француженка, по его вине потерявшая место в Германии, — девушка, которую он потом так долго искал, чтобы попросить прощения. Она тоже остановилась, и, не замечая толкотни, смотрела на Кристофа. Вдруг он увидел, что она пытается выбраться из потока прохожих, хочет перейти улицу, чтобы добраться до него. Он бросился ей навстречу, но плотная цепь экипажей разделила их; еще несколько мгновений он видел, как она металась по другую сторону этой движущейся стены; он решил во что бы то ни стало перейти улицу, чуть не попал под лошадь, поскользнулся, упал на липкий асфальт и едва не погиб под копытами. Когда он встал, весь в грязи, и перешел на другую сторону, она уже исчезла.
Он хотел пуститься вдогонку. Но голова у него закружилась сильнее, и ему пришлось отказаться от этой попытки. Он заболевал, — он это чувствовал, хотя и не хотел в этом себе признаться. Он решил вернуться домой как можно позже и выбрал самый длинный путь. Напрасная попытка: пришлось сдаться; ноги у него подкашивались, он еле двигался и с трудом дотащился до дому. На лестнице он совсем задохнулся и вынужден был присесть на ступеньках. Вернувшись в свою нетопленную комнату, он решил пересилить болезнь и не ложиться; он сидел на стуле, взмокший, с тяжелой головой, тяжело дыша; в его горевшей, больной голове гулко отдавались лихорадочные ритмы музыки. В мозгу проносились фразы из Неоконченной симфонии Шуберта. Бедный милый Шуберт! Когда он писал эту симфонию, он тоже был одинок, тоже в лихорадке и полусне, в том состоянии оцепенения, которое предвещает великий сон; он грезил у камелька; дремотная музыка колыхалась вокруг него, подобно стоячей воде; он вслушивался в нее, как засыпающий ребенок, который по двадцать раз повторяет фразу из сочиненной им самим, полюбившейся ему сказки; приходит сон… приходит смерть… До Кристофа донеслась и другая музыка, — горячие руки, закрытые глаза, усталая улыбка, музыка, полная вздохов сердца, мечтающая о смерти-избавительнице — первый хор из кантаты Иоганна-Себастьяна Баха «Милосердный боже, когда же ты пошлешь мне смерть?..» Отрадно было отдаваться ласковым звукам, набегающим медленными волнами, гулу далеких, приглушенных колоколов… Умереть, раствориться в покое земли!.. «Und dann selber Erde werden»… («А потом самому стать прахом»…)
Кристоф стряхнул с себя этот болезненный бред, эту смертоносную улыбку сирены, которая подстерегает ослабевшие души. Он встал и попробовал пройтись по комнате, но не мог держаться на ногах. У него зуб на зуб не попадал от озноба. Пришлось лечь. Он чувствовал, что на сей раз заболел серьезно, но не сдавался: он был не из тех, кто, заболев, поддается недугу; он боролся, он не хотел быть больным, а главное — он твердо решил не умирать. У него была мать, которая ждала его. Ему надо было столько сделать! Он не даст убить себя. Он стискивал зубы, выбивавшие дробь, напрягал уже непослушную волю, — так хороший пловец продолжает бороться с захлестывающими его волнами. С каждым мгновением он все глубже погружался в пучину; то были бредовые мысли, бессвязные образы, воспоминания о родине или о парижских гостиных; как наваждение, звучали ритмы и фразы, кружившиеся, кружившиеся, точно лошади в цирке; вдруг в глаза ударял золотой свет из «Милосердного самаритянина»; страшные фигуры во мраке; потом пропасть, тьма. Затем он всплывал вновь, прорывался сквозь туманности, уродливые маски которых то кривлялись у него перед глазами, то отступали, стискивал кулаки и челюсти. Старался воскресить в памяти всех, кого любил в настоящем и в прошлом, милое лицо, промелькнувшее на улице, образ дорогой матери; но самой несокрушимой скалой было его внутреннее «я», не поддававшееся распаду, — я, «коему и смерть не в смерть»… Скалу снова накрывало море; прибоем уносило душу, волны отбрасывали ее прочь. И Кристоф метался в бреду, выкрикивая бессмысленные слова, дирижируя воображаемым оркестром, подражая звуку различных инструментов: тромбонам, трубам, цимбалам, литаврам, фаготам, контрабасам… фыркал, пыхтел, яростно колотил кулаками. В несчастном его мозгу клокотала загнанная внутрь музыка. Давно уже он не слышал музыки, не играл сам — он был как котел, готовый взорваться под напором пара. Некоторые фразы буравом сверлили ему мозг, пробивали барабанную перепонку, и он выл от боли. А когда кончались приступы, он падал на подушку, изнемогший, весь в поту, обессиленный, задыхающийся. Он поставил у кровати графин с водой и все время жадно пил. От возни в соседней комнате, от хлопанья двери он вскрикивал. Он с болезненным отвращением чувствовал кишение человеческих существ вокруг. Но воля его все еще боролась, воинственными фанфарами вызывала на бой демонов…
Читать дальше