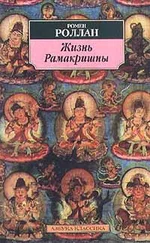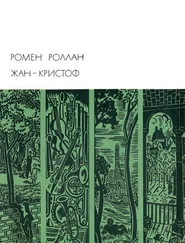— Ты хочешь навязать нам Штрауса?
— Отнюдь. Он бы вас окончательно разрушил. Нужно иметь желудок моих соотечественников, чтобы переварить его излишества. И даже они не выдерживают их… «Саломея» Штрауса!.. Вот уж, действительно, шедевр!.. Не хотел бы я быть ее автором… Я вспоминаю, как мой милый дедушка и дядя Готфрид рассказывали мне с почтением и трогательной любовью о прекрасном искусстве звуков!.. Владеть этими божественными силами и так злоупотребить ими!.. Метеор, поджигающий дома! Изольда в образе еврейской проститутки, Мучительная и скотская похоть. Жажда убийства, насилия, порока, преступлений — вот угроза, которая таится в бездне германского декадентства!.. А у вас — в вашем французском декадентстве — спазмы сладострастного самоубийства… У нас — зверь, у вас — добыча. Где же человек?.. Ваш Дебюсси — гений хорошего вкуса; Штраус — дурного. Первый очень слащав. Второй очень неприятен. Первый — это серебристый пруд, заросший осокой и издающий тлетворный запах, второй — грязный поток… Ах, как он отдает низкопробной итальянщиной и неомейерберовщиной! Какие отбросы чувств несет эта пена!.. Гнусный шедевр! Саломея, дочь Изольды!.. Интересно, чьей матерью станет Саломея?
— Да, — сказал Оливье, — я хотел бы жить на полвека позднее. Ведь конь мчится к пропасти, и это должно так или иначе кончиться, остановится ли он или сорвется. Тогда мы вздохнем свободно. К счастью, земля не перестанет цвести, будет музыка или ее не будет. На что нам это бесчеловечное искусство?.. Запад сжигает себя… Скоро… Скоро… Я вижу другие огни, они поднимаются из глубин Востока.
— А да ну тебя с твоим Востоком! — сказал Кристоф. — Запад еще не сказал своего последнего слова. Напрасно ты думаешь, что я от него отрекаюсь! Мне хватит еще на века. Да здравствует жизнь! Да здравствует радость! Да здравствует битва с нашей судьбой! Да здравствует любовь, от которой ширится сердце! Да здравствует дружба, которая согревает нашу веру, — дружба, которая сладостнее любви! Да здравствует день! Да здравствует ночь! Слава солнцу! Laus Deo [20], богу мечты и действия, богу, сотворившему музыку! Осанна!..
Тут он сел за стол и начал записывать все, что приходило ему в голову, уже забыв свою длинную речь.
В ту пору Кристоф был в полном расцвете и равновесии всех своих сил и способностей. Он мало придавал значения эстетическим спорам о ценности той или иной музыкальной формы и рассудочным поискам нового; ему даже не приходилось делать никаких усилий, чтобы находить сюжеты для своей музыки. Все годилось. Поток музыки лился непрерывно, и Кристоф даже не знал, какие именно чувства он выражает. Он был счастлив — вот и все, счастлив оттого, что мог излить себя в этом потоке, счастлив, что слышит в себе биение вселенской жизни.
Эта радость, эта душевная полнота сообщались и окружающим.
Дом с огороженным со всех сторон садиком был тесен для Кристофа. Правда, из сада калитка вела в монастырский парк с широкими аллеями и вековыми деревьями; но все это было прекрасно, слишком прекрасно, и долго это длиться не могло. Как раз напротив его окна строился шестиэтажный дом, который должен был скоро все заслонить и окончательно замуровать Кристофа. Он имел удовольствие слышать каждый день с утра до вечера, как скрежещут блоки, как рабочие долбят камень, прибивают доски. Он вскоре обнаружил здесь своего приятеля — кровельщика, с которым некогда познакомился на крыше. Они издали обменивались кивками, выражавшими взаимное расположение. Встретив его однажды на улице, Кристоф повел кровельщика в винный погребок, где они вместе выпили, чем Оливье был весьма озадачен и даже несколько шокирован. А Кристофа забавлял смешной жаргон кровельщика, его неистощимое благодушие. Тем не менее он проклинал и своего знакомца; и всю компанию этих муравьев, возводивших перед ним заслон, который лишал его дневного света. Оливье не жаловался: он готов был довольствоваться и стенами вместо горизонта, — это напоминало ему печь Декарта, откуда стесненная мысль тем стремительнее рвется в свободные небеса. Но Кристофу необходим был воздух. Зажатый в этом тесном углу, он тем охотнее общался с окружавшими его людьми. Он впивал в себя их души, перекладывал на музыку. Оливье уверял, что Кристоф похож на влюбленного.
— Ах, если бы это было так! — восклицал Кристоф. — Я бы ничего не видел, ничем бы не интересовался, кроме моей любви.
— Тогда что же с тобой?
— Просто я здоров, и у меня прекрасный аппетит.
Читать дальше