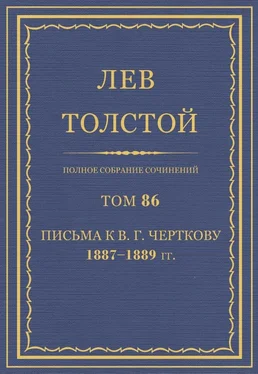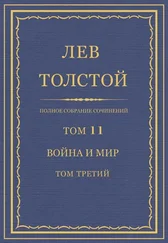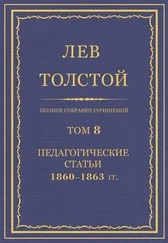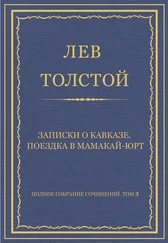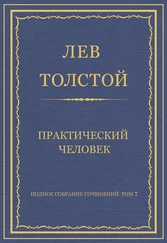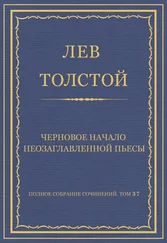Толстой Л.Н. - Полное собрание сочинений. Том 86
Здесь есть возможность читать онлайн «Толстой Л.Н. - Полное собрание сочинений. Том 86» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Классическая проза, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Полное собрание сочинений. Том 86
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Полное собрание сочинений. Том 86: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Полное собрание сочинений. Том 86»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Полное собрание сочинений. Том 86 — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Полное собрание сочинений. Том 86», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Толстой своей открыткой откликается на большое письмо Черткова от 7 июня 1889 года, к которому было приложено письмо священника Аполлова. В этом письме Чертков писал Толстому о своем отношении к физическим и душевным страданиям и просил Толстого написать ему о своем отношении к смерти: «.... мне давно хочется вас спросить, но всё боялся, что вам затруднительно будет ответить, или, что вам странно покажется, что я это делаю. Но ведь, в сущности, странного или неуместною в этом вопросе ничего не может быть, раз я испытываю настойчивую потребность в его разрешении и меня тянет уэнать именно ваше отношение к нему. Stead в своей книге о России, в которой он между прочим так бесчувственно и непонятливо копается в вашей душе и в вашей семейной жизни, говорит, что вы говорили ему о том, как вас манит плотская смерть, как вас тянет в будущую жизнь — до такой степени, что вам приходится делать усилие над собою, чтобы не предаваться чрезмерно этим думам, отвлекаясь ими от задачи настоящей жизни. На продолжение жизни, своего отдельного отношения к миру после плотской смерти, вы намекаете и в книге «О жизни», — но только намекаете. Мне хотелось бы, чтобы вы сказали мне в нескольких словах, как вы понимаете эту будущую, это продолжение жизни. Мне это нужно только для самого себя, и вы знаете, что я действительно понимаю вас с полуслова; а потому то, что я вас прошу, если вы ответите мне и для меня, не потребует от вас серьезной работы для выражения словами. Для меня вопрос этот пока разрешается так, что условие пространства и времени, самое понятие об этих условиях, вполне условно и вытекает из ограниченности нашего земного мировоззрения. В действительности же нет времени и пространства. Всё равно, как человеку, едущему по реке на пароходе, кажется, что берега и всё на них двигается, но это ему так кажется только потому, что он не может отрешиться от сознания поступательного движения своего собственного парохода. В действительности же берега и всё на них пребывает на месте, и для жизни их вовсе не нужно, в жизни их вовсе не участвует то движение, которым всё увлечено в глазах едущего на пароходе. Так нам в жизни, пока мы в плотской оболочке, всё кажется, что одно происходит прежде, другое после, одно здесь, другое там. Но по мере развития в нас разумения истинной жизни, эти ограничения постепенно улетучиваются, и мы духовно общаемся и единяемся помимо пространства и времени. Но в таком случае, для чего еще нам нужна плотская смерть, т. е. почему она привлекательна, почему некоторые желают её раньше, чем она наступила? Законно ли такое влечение к тому, чего еще нет, и чтó само по себе не должно было бы иметь значения для нас, так как мы имеем возможность здесь, при плотской жизни приобщиться вне временного царства божьего? И тогда смерть уничтожится для нас, станет вполне незначительною подробностью нашей личной жизни в роде того, как сходить на двор, и по тому самому не может составлять предмет нашего серьезного желания. Впрочем это только иногда мне так кажется. А иногда кажется напротив того, что самый акт плотской смерти — самое значительное, чтó бывает в плотской жизни, такой акт, которого, как у вашего Ивана Ильича, одного достаточно, чтобы осмыслить бессмысленную жизнь, дать радостное сознание чего-то важного, хорошо исполненного, человеку, неумевшему всю жизнь совершить ничего истинно жизненного. Но когда человек имеет счастье при жизни жить, то для него нет надобности оживать, умирая. А в плотской душевной жизни самое осязание временности жизни имеет большое практическое значение в том отношении, что в условиях времени потребность духовного общения с людьми побуждает нас к деятельности: общаясь с прежде-жившими, мы воспринимаем от них то, чтó они пережили, выжили из жизни и нажили для нас; общение же с будущими людьми, которых ещё нет на земле, ― у нас одно ― делать для них то, чтó прежние наши братья делали для нас, т. е. зарабатывать и копить для них богатство непреходящее, которым они будут пользоваться от нас — нашею теперешнею жизнью облегчить их предстоящую жизнь так, чтобы, по возможности, они могли пользоваться результатами наших родовых мук, а не приходилось бы им сызнова переживать те же родовые муки, чтобы дойти только до того самого, до чего мы дошли. Им надо начать с того, где мы кончили, а для этого нам следует, и это наша несомненная обязанность перед богом и людьми, отдавать людям всё то духовное, чтó мы нажили, а не ограничиваться собственным внутренним своим удовлетворением, как хотел было сделать Будда, когда он познал истину и раньше, чем понял, что ему предстоит служение людям. Познав — достаточно для того, чтобы сознавать даже отсутствие возможности новизны в земной нашей обстановке, нам надобно всё остальное свое время безостановочно посвящать на передачу другим того, чтò мы приобрели, а не жаждать прежде времени новизны для самих себя в какой-нибудь другой обстановке. А потому мне кажется , что желание плотской смерти так же незаконно, как и суеверен страх ее.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Полное собрание сочинений. Том 86»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Полное собрание сочинений. Том 86» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Полное собрание сочинений. Том 86» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.