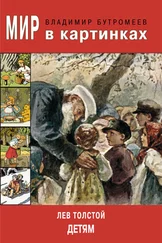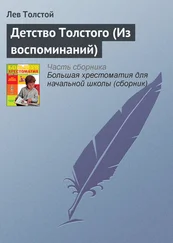Я знал Марью Александровну с детства. Случилось так, как это часто случается между молодыми людьми, что между нами были дружеские отношения, никогда ничего похожего на влюбление, если не считать одного вечера, когда они были у нас и играли в «дамы и кавалеры», и она, пятнадцатилетней девочкой с красными толстыми руками и черными прекрасными глазами и толстой, длинной черной косой, подействовала на меня так, что я вообразил на один вечер, что влюблен в нее. Но зто было только один вечер, а остальное время – все сорок лет нашего знакомства – мы были в тех хороших дружеских отношениях мужчины и женщины, уважающих друг друга, которые особенно приятны, если они совершенно чисты от влюбления, какими были мои отношения с Марьей Александровной.
Дружеские отношения эти доставили мне много приятных минут и многому научили меня. Я не знал женщины, более полно олицетворявшей тип хорошей жены и матери. Многое я понял и узнал от нее, многому научился.
Последний раз я виделся с нею год тому назад, за месяц до ее смерти, которую ни я, ни она не предвидели. Она только что устроилась жить при мужском монастыре одна с своей кухаркой Варварой. Так странно было видеть ее, мать восьми детей и бабку чуть не полсотни внучат, одинокою женщиной, очевидно бесповоротно решившей, несмотря на более или менее искренние приглашения к себе детей, доживать свой век одной. Сначала мне показалось необъяснимо ее поселение в монастыре; я знал ее – не скажу свободомыслие – она никогда не выставляла его, – но смелость и здравомыслие. Полнота чувства, заполнявшего все ее сердце, не давала места суевериям. Знал я ее отвращение ко всякому лицемерию и фарисейству. И вдруг – домик при монастыре, хождение на службы и батюшка, отец Никодим, руководству которого она вполне подчинилась. Все это она делала скромно, умеренно, как будто немного стыдясь этого.
Когда мы свиделись, она, очевидно, избегала разговоров о том, почему она избрала такую жизнь. Но я думаю, что я понял. Она была человек сердца, а по уму совершенный скептик. Но без детей, без забот о них после своей сорокалетней трудовой жизни в семье ей нужно было на что направить свое чувство. В семьях детей она не нашла этого и решила уединиться, – а при уединении она надеялась найти утешение в том, в чем другие находили его, – в религии. Очевидно, ей было очень тяжело на сердце, но она была горда и за себя и за детей и только чуть, намеками, показала мне свое положение. Когда я спрашивал о ее детях – я всех знал их, – она отвечала мне неохотно, не осуждая их. Но я видел, какая – не драма, – а сколько разных драм было скрыто в ее сердце.
– Да, Володя очень хорошо устроился, – говорила она мне, – он председателем палаты и купил имение. Да, растут и дети – три мальчика, две девочки, – и она замолчала, нахмурив свои черные брови, очевидно удерживая выражение мысли и отгоняя ее.
– Ну, а Василий?
– Василий все то же, – вы ведь знаете его?
– Все светскость?
– Да, да.
– Тоже дети?
– Трое.
Такого рода разговоры были о всех сыновьях и дочерях. Больше всех она любила говорить о Пете. Это был неудавшийся член семьи, промотавший все, что имел, не плативший долгов и мучавший больше всех других свою мать. Но она больше всех любила его, сквозь его гадости видя и любя его «золотое сердце», как она говорила.
Увлекалась она разговором только тогда, когда мы касались ее молодого, беззаботного времени, о котором с особенною прелестью воспоминания говорят люди, измученные невысказанными страданиями. Самый же увлекательный разговор наш, вследствие которого я засиделся у нее за двенадцать, и последний мой разговор с нею – трогательный и умилительный – был разговор о Петре Никифоровиче. Это был кандидат московского университета – первый учитель ее детей, умерший чахоткой в их же доме, – человек замечательный, имевший на нее большое влияние и едва ли не единственный человек, которого она после мужа могла полюбить или полюбила, сама не зная этого.
Мы говорили о нем, о его взглядах на жизнь, которые я знал и разделял в то время. Он был – не сказать поклонник Руссо, хотя знал и любил его, но был человеком того же склада ума. Это был человек такой, какими, мы представляем себе древних мудрецов. При этом с кротостью и смирением бессознательного христианства. Он был уверен, что он терпеть не может христианского учения, а между тем вся его жизнь была самоотвержением. Ему, очевидно, было скучно жить, если он не мог чем-нибудь жертвовать для кого-нибудь и жертвовать так, чтобы ему было трудно и больно. Только тогда он был доволен. При этом он был невинен, как ребенок, и нежен, как женщина.
Читать дальше