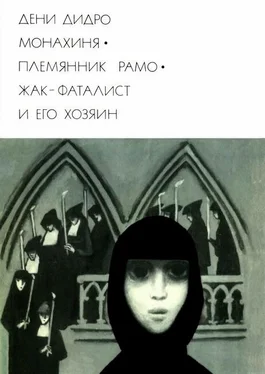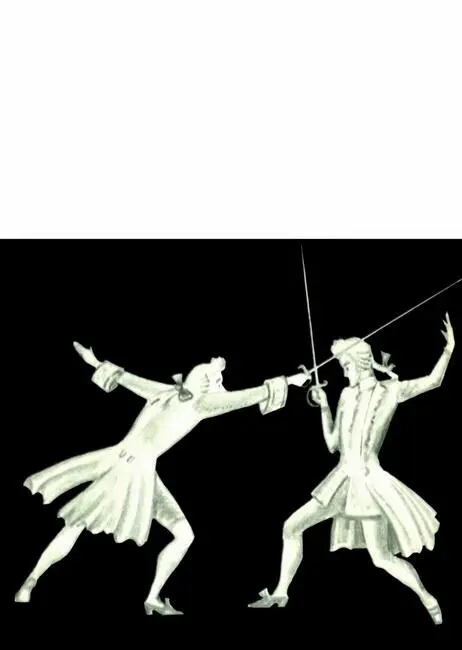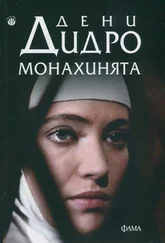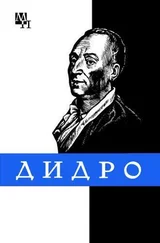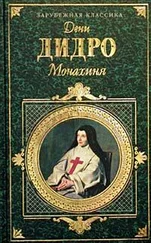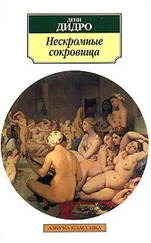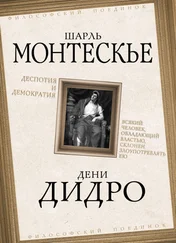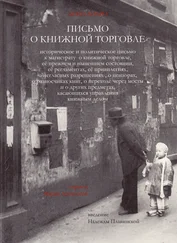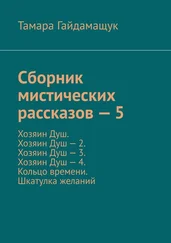— Это ты, друг мой?
— Это вы, дорогой мой Хозяин?
— Как ты очутился среди этих людей?
— А как случилось, что я встретил вас здесь?
— Это вы, Дениза?
— Это вы, господин Жак? Сколько я из-за вас слез пролила!
Между тем Деглан кричал:
— Принесите вино и стаканы! Скорей, скорей! Он нам всем спас жизнь!..
Несколько дней спустя умер дряхлый привратник замка; Жак занял его место и женился на Денизе, с помощью которой он старается сейчас продлить род последователей Зенона {197} и Спинозы; Деглан любит его, Хозяин и жена обожают: ибо так было предначертано свыше.
Меня пытались убедить, будто Хозяин Жака и Деглан влюбились в жену Жака. Не знаю, как было на самом деле, но я уверен, что по вечерам Жак говорил сам себе: «Если свыше предначертано, Жак, что ты будешь рогоносцем, то, как ни старайся, а ты им будешь; если же, напротив, начертано, что ты им не будешь, то, сколько б они ни старались, ты им не будешь; а потому спи спокойно, друг мой!..» И он засыпал спокойно.
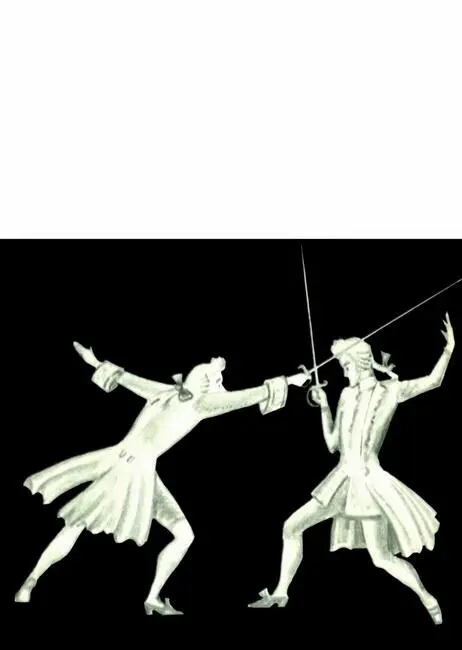
См.: К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 2, с. 115.
«К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве», т. 2. М., 1967, с. 545.
Морис Торез. Сын народа. М., 1950, с. 200
Прииди, создатель (лат.).
Молись за нее (лат.).
Да почиет с миром (лат.).
Сатана, отпусти, отойди, сатана (лат.).
Рожденный для горестных перемен. — Горац, кн. II, Сатира VII (лат.).
О драгоценный помет! (лат.).
Так же, равным образом (лат.).
Брюхо — поставщик ума (лат.).
Сидит, как великий пройдоха, между двух плутов (итал.).
Всеми правдами и неправдами (лат.).
Да здравствует Маскариль, король плутов! (лат.).
Скорбящая (лат.).
Ждать и не приходить… Подумайте о Цербине… Вечно с тобой приходится спорить… (итал.).
Каждый несет свою кару (лат.).
Кто идет медленно, идет уверенно (итал.).
Кто идет уверенно, идет далеко (итал.). Обе итальянские поговорки соответствуют русской пословице: «Тише едешь — дальше будешь».
«Ангел господень возвестил Марии…» (лат.).
В монастырском карцере.
Родил (лат.).
Я совокупляюсь (лат.).
Пусть непристойны стихи, жизнь безупречна моя (лат.).
Браво, браво, мой дорогой Хозяин! (итал.).
Высокое дал он лицо человеку и в небо прямо глядеть повелел, подымая к созвездиям очи (лат.).
Роман «Монахиня» написан во второй половине 1760 года.
Замысел его вызревал постепенно. Конец 50-х годов принес сенсационные разоблачения тайн монастырских стен, случаев жестокого изуверства во Франции. По рукам ходила «Книга пророческой жизни Марии Алакок, монахини-визитандинки»; черные сутаны противопоставляли ей «Апологию монашеской жизни». Монастырский быт стал предметом оживленного общественного обсуждения, и Дидро не мог остаться в стороне. Будто бы от лица монахини из Лоншана, особы от природы смиренной, но доведенной до крайности преследованиями, он вместе со своими друзьями распространял письма, разоблачавшие монастырские нравы. Последнее из них появилось в мае 1760 года, а уже в сентябре Дидро упоминает в переписке о работе над новым романом. Решающим толчком послужило судебное дело некой Маргариты Деламар, заточенной в монастырь после скандального расторжения брака. Смерть всех ее братьев и сестер сделала Маргариту единственной наследницей семейного состояния, и она требовала, чтобы обет бедности, принятый под угрозой заключения в исправительный дом для девиц легкого поведения, был расторгнут. Суд отказал в иске, Маргарита Деламар осталась в монастыре пожизненно.
Антирелигиозное и антиклерикальное произведение такой разоблачительной силы, как «Монахиня», невозможно было опубликовать в то время. При жизни Дидро с романом познакомились только доверенные друзья. По свидетельству г-жи Вандель, дочери писателя, он возвращался к своему роману неоднократно. В частности, в 1774 году он привез из России новый отредактированный вариант «Монахини», а в 1780 году передал рукопись преемнику Мельхиора Гримма по немецкой «Литературной корреспонденции», швейцарскому журналисту Мейстеру. В письме к последнему (27 сентября 1780 г.) Дидро писал: «Это — произведение, в котором живописцы могли бы отыскать для себя много сюжетов, и если бы тому не противилось тщеславие, его истинным эпиграфом были бы слова: «И я тоже художник (son pittor anch’io)». Высказывание это свидетельствует, что Дидро был удовлетворен реалистически-изобразительной стороной своего первого романа.
Читать дальше