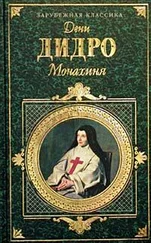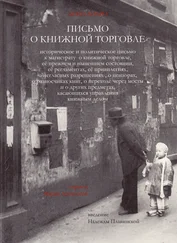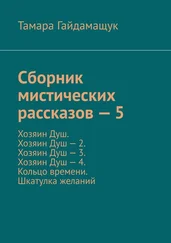Хозяин. Почему ты так думаешь?
Жак. Почему? Потому, что, когда вы стали сами себе Хозяином и владельцем приличного состояния, надо еще было околпачить вас окончательно, то есть сделать настоящим мужем.
Хозяин. Думаю, что таково было их намерение; но оно не увенчалось успехом.
Жак. Либо вы счастливец, либо они оказались большими растяпами.
Хозяин. Но мне кажется, что голос у тебя менее хриплый и что ты говоришь свободнее.
Жак. Вам только так кажется; дело обстоит иначе.
Хозяин. Не мог ли бы ты продолжать историю своих любовных похождений?
Жак. Нет.
Хозяин. И ты склоняешься к тому, чтоб я продолжал историю своих?
Жак. Я склоняюсь к тому, чтобы сделать перерыв и приложиться к кубышке.
Хозяин. Как! С твоим воспаленным горлом ты опять приказал наполнить кубышку?
Жак. Да; но ячменным отваром, черт бы его побрал! А потому мне не приходит в голову ни одна мысль; хожу как дурак и не перестану так ходить, пока в кубышке будет один только отвар.
Хозяин. Что ты делаешь!
Жак. Выливаю отвар; я боюсь, как бы он не принес нам несчастья.
Хозяин. Ты спятил!
Жак. Спятил или не спятил, а в кубышке не останется даже слезинки.
Пока Жак выливает содержимое кубышки на землю. Хозяин смотрит на часы, открывает табакерку и собирается продолжать свою историю любовных похождений. А я, читатель, склонен заткнуть ему рот, показав издали старика военного, сутулого, скачущего верхом во всю прыть, или молодую крестьянку в маленькой соломенной шляпке и в красной юбке, идущую пешком или восседающую на осле. А почему бы старику военному не оказаться капитаном Жака или приятелем капитана? — Но ведь он умер. — Вы думаете?.. Почему бы молодой крестьянке не оказаться госпожой Сюзон, или госпожой Маргаритой, или хозяйкой «Большого оленя», или Жанной, или ее дочерью Денизой? Сочинитель романов не преминул бы так поступить; но я не люблю романов, за исключением романов Ричардсона. Я пишу историю; моя история либо заинтересует, либо не заинтересует; во всяком случае, меня это нисколько не заботит. Мое намерение — быть правдивым; я его исполнил. А потому я не стану возвращать брата Жана из Лиссабона; жирный приор, едущий нам навстречу в кабриолете с молоденькой и хорошенькой женщиной, не будет аббатом Гудсоном. — Но ведь аббат Гудсон умер. — Вы думаете? Разве вы были на его похоронах? — Нет. — А потому он жив или умер — как вам будет угодно. От меня зависит остановить кабриолет, выпустить оттуда приора и его спутницу и в связи с этим нанизать ряд событий, вследствие чего вы не узнаете ни любовных похождений Жака, ни любовных похождений его Хозяина; но я пренебрегаю всеми этими способами и только прихожу к убеждению, что с помощью некоторого воображения и нескольких стилистических прикрас легко смастерить роман. Будем придерживаться правды и, пока Жак не вылечится от воспаления горла, предоставим говорить его Хозяину.
Хозяин. Однажды утром шевалье явился ко мне грустный; накануне он, моя (или его, а быть может, и наша) возлюбленная, отец, мать, тетки, кузины и я провели день за городом. Он спросил меня, не совершил ли я какой-либо неосторожности, которая заставила бы родителей заподозрить мою страсть. Затем он сказал, что, встревоженные моим ухаживанием, отец и мать допросили дочь; что если я питаю честные намерения, то мне ничего не стоит в них признаться, и семья почтет за честь принять меня на таких условиях; но что если я в течение двух недель не объяснюсь открыто, то меня попросят прекратить посещения, которые привлекают к себе внимание, служат предметом сплетен и вредят репутации их дочери, отваживая от нее выгодных женихов, достойных сделать предложение без риска получить отказ.
Жак. Ну как, сударь, есть у Жака нюх?
Хозяин. Шевалье добавил:
«Две недели — срок короткий. Вы любите, вас любят; как вы поступите через две недели?»
Я без обиняков ответил кавалеру, что ретируюсь.
«Ретируетесь! Значит, вы не любите?»
«Люблю, и сильно люблю; но у меня есть родные, имя, звание, притязания, и я никогда не решусь похоронить все эти преимущества в лавке какой-нибудь мещаночки».
«Могу я им это объявить?»
«Если угодно. Однако, шевалье, внезапная щепетильность этих людей меня удивляет. Они позволили дочери принимать от меня подарки; двадцать раз оставляли меня наедине с нею; она посещает балы, ассамблеи, спектакли, гульбища в городе и за городом с первым, кто предложит ей свой экипаж; они спокойно спят, пока у нее музицируют и разговаривают; ты свободно посещаешь их дом, когда тебе заблагорассудится, а между нами говоря, шевалье, когда тебя пускают в какой-нибудь дом, то туда можно пустить и другого. Их дочь пользуется дурной славой. Я не верю тому, что о ней говорят, но и не стану также это опровергать; однако ты признаешь, что ее родители могли несколько раньше побеспокоиться о чести своего дитяти? Хочешь, чтобы я сказал тебе правду? Меня почитали у них за простофилю, которого собирались приволочь за нос к ногам приходского священника. Они ошиблись; я нахожу мадемуазель Агату очаровательной; она вскружила мне голову: это явствует из тех невероятных расходов, в которые я пустился ради нее. Я не отказываюсь продолжать, но только с условием, что впредь она будет немного подобрее. Я не намерен вечно расточать время, состояние и вздохи у ее ног, когда могу использовать их целесообразнее в другом месте. Ты передашь эти последние слова мадемуазель Агате, а все предыдущее — ее родителям… Либо наше знакомство должно прекратиться, либо я буду принят на новых условиях, и мадемуазель Агата найдет для меня лучшее применение, нежели прежде. Припомните, шевалье: когда вы ввели меня к ней, вы обещали мне легкую победу, которой я не дождался. Шевалье, вы меня надули».
Читать дальше