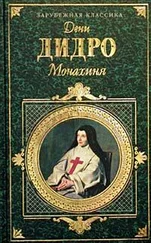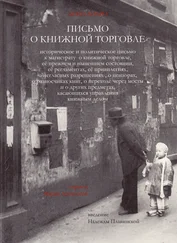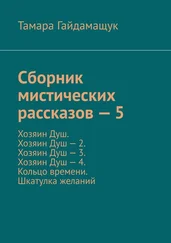Вы намерены принять историю капитана за басню, но вы не правы. Уверяю вас, что в том самом виде, в каком Жак рассказывал ее своему Хозяину, я слышал ее в Доме Инвалидов, уж не помню в каком году, в день святого Людовика за столом у господина Сент-Этьена, тамошнего майора; а рассказчик, который говорил в присутствии нескольких других офицеров из того же полка, знавших это дело, был человек степенный и вовсе не похожий на шутника. А посему повторяю вам, как применительно к данному случаю, так и на будущее: будьте осмотрительны, если не хотите в разговоре Жака с его Хозяином принять правду за ложь, а ложь за правду. Я вас должным образом предупредил, а дальше умываю руки. — Какая странная пара, скажете вы. — Так вот что вызывает в вас недоверие! Во-первых, природа столь разнообразна, особенно в отношении инстинктов и характеров, что даже воображение поэта не в состоянии создать такой диковины, образчика которой вы не нашли бы в природе с помощью опыта и наблюдения. Я сам, говорящий с вами, встретил двойника «Лекаря поневоле» {141} , которого считал до тех пор сумасброднейшим и забавнейшим измышлением. — Как! Двойника того мужа, которому жена говорит: «У меня трое детей на руках» и который отвечает ей: «Поставь их на землю…» — «Они просят хлеба…» — «Накорми их березовой кашей»? — Именно так. Вот его беседа с моей женой:
«Это вы, господин Гусс?»
«Да, сударыня, я, а не кто-нибудь другой».
«Откуда вы идете?»
«Оттуда, куда ходил».
«Что вы там делали?»
«Чинил испортившуюся мельницу».
«Чью мельницу?»
«Не знаю; я не подрядился чинить мельника».
«Вы отлично одеты вопреки своему обыкновению; отчего же под столь опрятным платьем вы носите такую грязную рубашку?»
«У меня только одна рубашка».
«Почему же у вас только одна?»
«Потому что у меня одновременно бывает только одно тело».
«Мужа нет дома, но надеюсь, это не помешает вам у нас пообедать?»
«Нисколько: я ведь не одалживал ему ни своего желудка, ни своего аппетита».
«Как поживает ваша супруга?»
«Как ей угодно; это не мое дело».
«А дети?»
«Превосходно».
«А тот, что с такими красивыми глазками, такой, пухленький, такой гладенький?»
«Лучше других: он умер».
«Учите вы их чему-нибудь?»
«Нет, сударыня».
«Как! Ни читать, ни писать, ни закону божьему?»
«Ни читать, ни писать, ни закону божьему».
«Почему же?»
«Потому что меня самого ничему не учили, и я не стал от этого глупее. Если у них есть смекалка, они поступят как я; если они дураки, то от моего учения они еще больше поглупеют…»
Повстречайся он вам, вы можете заговорить с ним, не будучи знакомы. Затащите его в кабачок, изложите ему свое дело, предложите отправиться с вами за двадцать миль, — он отправится; используйте его и отошлите, не заплатив ни гроша, — он уйдет вполне довольный.
Слыхали ли вы о некоем Премонвале {142} , дававшем в Париже публичные уроки математики? Он был его другом… Но, может быть, Жак и его Хозяин уже встретились; хотите вернуться к ним или предпочитаете остаться со мной? Гусс и Премонваль вместе содержали школу. Среди учеников, толпами посещавших их заведение, была молодая девушка, мадемуазель Пижон {143} , дочь искусного мастера, изготовившего те две великолепные планисферы, которые перенесли из Королевского сада в залы Академии наук. Каждое утро мадемуазель Пижон отправлялась в школу с папкой под мышкой и готовальней в муфте. Один из профессоров, Премонваль, влюбился в свою ученицу, и в промежутки между теоремами о телах, вписанных в сферу, поспел ребенок. Папаша Пижон был не такой человек, чтоб терпеливо выслушать правильность этого короллария. Положение любовников становится затруднительным, они держат совет; но поскольку у них нет ни гроша, то какой же толк может быть от такого совещания? Они призывают на помощь своего приятеля Гусса. Тот, не говоря ни слова, продает все, что имеет, — белье, платье, машины, мебель, книги; сколачивает некоторую сумму, впихивает влюбленных в почтовую карету, верхом сопровождает их до Альп; там он высыпает из кошелька оставшуюся мелочь, передает ее друзьям, обнимает их, желает им счастливого пути, а сам, прося милостыню, идет пешком в Лион, где расписывает внутренние стены мужского монастыря и на заработанные деньги, уже без попрошайничества, возвращается в Париж.
Это просто прекрасно. — Безусловно! И, судя по этому героическому поступку, вы полагаете, что Гусс был образцом нравственности? Так разуверьтесь: он имел о ней не больше понятия, чем щука. — Быть не может! — А между тем это так. Я беру его к себе в дело; даю ему ассигновку в восемьдесят ливров на своих доверителей; сумма проставлена цифрами; как же он поступает? Приписывает пуль и получает с них восемьсот ливров. — Что за гнусность! — Гусс в такой же мере бесчестен, когда меня обкрадывает, в какой честен, когда отдает все ради друга; это беспринципный оригинал. Восьмидесяти ливров ему было недостаточно, он росчерком пера добыл восемьсот, в которых нуждался. А ценные книги, которые он мне преподнес! — Что еще за книги? — Но как быть с Жаком и его Хозяином? Как быть с любовными похождениями Жака? Ах, читатель, терпение, с которым вы меня слушаете, доказывает, как мало вы интересуетесь моими героями, и я испытываю искушение оставить их там, где они находятся… Мне нужна была ценная книга, он мне ее приносит; спустя несколько времени мне нужна другая ценная книга; и он снова мне ее приносит; я хочу заплатить, но он не берет денег. Мне нужна третья ценная книга…
Читать дальше