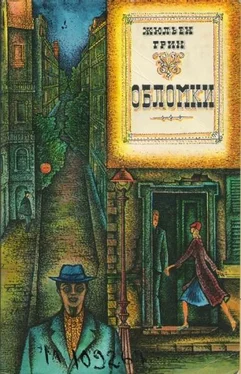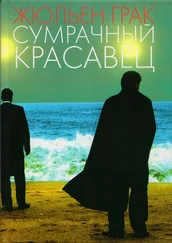Сегодня, конечно, никакого наслаждения он не испытывал, только любопытство, но любопытство не обычное, а сродни ярости. С помощью собственных воспоминаний он пытался вообразить себе страсть этого мужчины к своей жене. И тот бал, где он познакомился с Анриеттой, предстал перед ним щедро залитый светом люстр. Тогда на ней было палевое платье, а руки, грудь, шея — вся эта белоснежная нагота, казалось, вот-вот прорвет плотно облегающую ткань, на которой играли матовые блики. Она произвела на Филиппа такое ошеломляющее впечатление, что у него сразу пересохло в горле. Ослепленно прикрыв глаза, он все-таки успел оценить даже лучше, чем прикосновением ладони, поразительную нежность этой кожи и стоял, отупев от желания, а она смотрела на него спокойно и жестко. Все это он помнил до мелочей, но скорее не как быль, а как чей-то чужой рассказ, о чем-то случившемся не с ним, а с другим. Как он ни бился, он не мог узнать себя в этом влюбленном, очевидно, чуточку смешном юноше. Он вспоминал фразы, которые шептал, уткнувшись в колени Анриетты, и покраснел; он уже начал сомневаться, да говорил ли вообще те слова.
Вдруг ему захотелось смеяться, так громко, так звонко рассмеяться, чтобы Анриетта и тот, другой, услышали за дверью. Ну что из того, что женщина, к которой он уже давно не испытывает желания, ему неверна? Филиппу сообщили, что соперник его беден, плохо одет, ростом невысок, болезненный с виду. Филипп уже окончательно ничего не понимал; каждое утро он пристрастным взором разглядывал свое тело в трюмо и даже теперь гордо провел перчаткой по бедру: ослепли они все, что ли?
«Может быть, я сейчас и буду чуточку страдать», — подумал он. И, не выпуская ручонку сына, он стал подыматься по лестнице, словно надеялся найти на пятом этаже те страдания, которых не испытывал на четвертом.
Они остановились на площадке между четвертым и пятым этажом у маленького, забранного решеткой окошка, тускло освещавшего кусок лестницы. Смутный свет падал через грязное стекло на лицо Филиппа; он застыл, понурив голову, упираясь кончиком трости не в ту ступеньку, на которой стоял, а одной выше. Глубокий вздох Робера вывел его из задумчивости.
— Ты ничего не слышишь? — шепнул Филипп.
— Разное слышно… — в тон ему ответил мальчик и добавил, желая угодить отцу, хотя не понимал, почему это на взрослого человека нашел вдруг каприз лезть на пятый этаж. — Вообще-то интересно.
— А что ты слышишь?
— Люди разговаривают.
— Верно. Пойдем отсюда.
Они спустились на третий этаж. Чуть пригнувшись, Филипп посмотрел на дверь которая через полчаса распахнется и закроется, выпустив его жену. Значит, она здесь. Этот, в сущности, банальный факт вырос в его глазах до размеров некой мистерии, и он жалел, что не может спокойно все обдумать, именно здесь, из-за присутствия сына. Время от времени Робер поднимал на отца нежный восхищенный взгляд, но Филипп притворялся, что не замечает, чувствуя себя до смешного недостойным этого восхищения. Несколько минут протекли в полном молчании. «Страдаю я или нет?» — допытывался у себя Филипп. Ответ пришел не сразу.
— Увы, нет, — проговорил он вслух.
— Что ты сказал?
Голос Робера. Филипп вздрогнул всем телом.
— Я сказал: не торчать же нам тут до вечера. Идем. На бульваре наверняка есть кинематограф. Только ни слова тете…
Они прошли перед дверью Виктора Тиссерана. Филипп резко пожал плечами…
— … маме, разумеется, тоже, — добавил он.
Итак, Робер поступил пансионером в известный коллеж в Пасси, где господа в сутанах взяли на себя заботу об этой юной душе. Первые два дня прошли особенно мучительно, и Филипп уже сожалел о своем решении. Всякий раз он, входя в кабинет, чуть ли не со слезами умиления и горечи вспоминал те времена, когда мальчик прятался за дверью, чтобы его напугать. Все это, казалось, происходило уже давным-давно. А теперь он не знал, как убить послеобеденные часы. Без сына кинематограф потерял для него всякую прелесть. Во всех музеях они уже успели побывать, а друзья порядком надоели; ничто не было способно его развлечь. Он охотно заваливался бы после обеда спать, да боялся потолстеть. Конечно, оставался еще один выход — поболтать с Элианой, но ему казалось, что она его избегает; может быть, сердится, что за последние месяцы отдалился от нее. Может, ждет, чтобы он попросил прощения? Филипп и на это бы пошел, только бы не видеть ее хмурого лица, пустого взгляда.
Элиана изменилась. За обедом молчала, и не потому, что злилась или раздражалась, нет, просто постоянная грусть отсекала, если можно так выразиться, эту душу от повседневной жизни. По одной из самых странных прихотей человеческого сердца она подчас так много думала о Филиппе, что даже голос самого Филиппа не всегда отвлекал ее от мыслей, и она почти не слушала, что он говорит. Сидела рядом с ним, а была одна…
Читать дальше