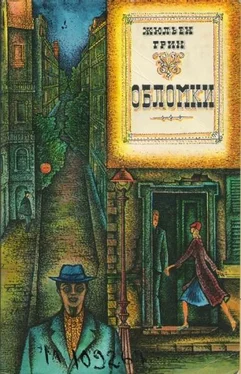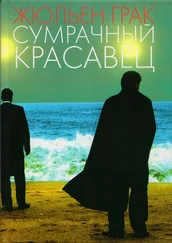С тех пор прошло тринадцать лет, жизнь весьма предусмотрительно оберегала его от таких несложных добродетелей, как отвага, и не представила ему случая снова проявить ее на деле.
Да и вообще, человек богатый и не тщеславный, Филипп ничего и не ждал от людей влиятельных, старался не попадать под обстрел их наглости и вел себя приблизительно так, как все его знакомые. Уже к двадцати пяти годам он перестал верить, что может принести пользу обществу, и сохранил на свой счет две-три иллюзийки, без которых, жизнь вообще пошла бы шиворот-навыворот. И, возможно, самая из них прочная сейчас улетучилась. Он привык считать, что хотя по природе он нерешителен и ленив, в нем живет что-то настоящее, какая-то тайная, но чуть ли не всемогущая сила, которую он держит про запас того дня, когда она ему понадобится; но сейчас он усомнился в этом. Оказывается, такой силы не существовало, эта простая истина вытеснила героический миф, и ему подумалось, что, пожалуй, он даже выиграл на этом.
«Удивительное дело, — повторил он вслух. — Я испугался».
Другой на его месте стал бы драматизировать это открытие, но — решил Филипп — если человек способен превращать в драму достаточно унизительное само по себе открытие, вполне могло статься, что такое открытие вообще бы не состоялось, ведь вкус к драмам неотъемлем от вкуса ко лжи, и к тому же не в его характере было приукрашивать ту или иную ситуацию. Конечно, не так-то красиво пуститься наутек перед опасностью, вернее, перед тенью опасности; и нелегко в этом признаваться, но раз уж человек пришел к такому выводу, то стоит ли упорствовать?
На него вдруг снизошло спокойствие. В душе он радовался, что его не видят ни друзья, ни жена. Ну кто во всем Париже мог бы даже предположить, что в такой туман он торчит на берегу Сены? Он негромко и печально рассмеялся, представив себе, как дивились бы люди, если бы он рассказал им об этой истории. Конечно, о нем говорили и плохо и хорошо, но этого как раз не говорили, не догадывались о той истине, которую он сам только узнал, и знал о ней только он один. Элиана, к примеру, уж никак не склонна считать его человеком робким, так как дома в их маленькой гостиной, где он слишком засиделся, словно бы оброс корой этих стен, Филипп подчас судил самоуверенно и даже пренебрежительно о людях, с которыми сталкивался в течение дня. Жена не слишком его слушала, зато свояченица, когда он переходил на презрительно-дерзкий тон, благоговейно внимала каждому слову, срывавшемуся с его губ. Если бы она только знала… Даже мысль об этом была ему непереносима. Стыд, самый настоящий стыд не оттого, что трус, а оттого, что люди узнают, что ты трус. А что бы он сделал, если бы, скажем, ему залепили пощечину где-нибудь в салоне? Он живо представил себе эту сцену. В огромном, ярко освещенном зале он стоит под люстрой, сверкающей, как солнце, изящные дамы прохаживаются, болтая с мужчинами во фраках, слышится женский смех, механический смех, раздвигающий только губы, но не зажигающий в глазах даже искорки веселья. Мужчины отвечают вежливыми дурацкими голосами, как принято говорить в высшем обществе. И вдруг к нему подходит один из этих господ. Как по волшебству они оказываются посреди окруживших их гостей, в самом центре зала, и такая воцаряется всезаполняющая тишина, что даже рвется прочь из дверей. Тот — загорелый, под глазами у него красно-бурые пятна. Левая половина пластрона вбирает в себя весь свет люстры и блестит, как кираса; на жилете три пуговицы из черного оникса с белой каемочкой, похожи на разноцветные, косящие глаза. Филипп застывает на месте. Тот делает шаг вперед и сухо бросает несколько слов, но Филипп не слышит, все его внимание приковано к этим пуговицам из оникса, которые, как ему кажется, смотрят в три разные стороны. Выражение у них, если только бывает выражение у пуговиц из оникса, выражение у них какое-то удивительно глупое, но неприязненное; тот дергает плечом, и одна пуговица, сдвинувшись с места, устремляет свой незрячий взгляд на Филиппа; и в ту же минуту пощечина ожигает его щеку, наполняя всю залу оглушительным звоном. Филиппу чудится, будто под ним разверзся пол и толпу смело потоками света, но никто даже не шелохнулся. Все ждут, что сделает он. В мозгу бьется банальнейшая фраза: «Такое оскорбление смывается только кровью, смывается только кровью», и вместо того, чтобы дать наглецу отпор, выхватить из бумажника визитную карточку, он еле сдерживает соблазн взять того за руки, успокоить, поправить белый галстук, чуть сбившийся на сторону, сказать ему: «Какие у вас хорошенькие пуговицы на пластроне. Если не ошибаюсь, они называются «кошачий глаз»?»
Читать дальше