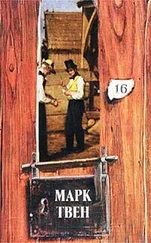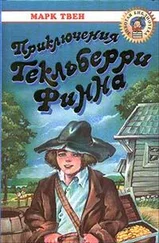Вскорѣ затѣмъ, насъ постигло другое разочарованіе. Увидѣвъ большую толпу народа, въ высшей степени чѣмъ-то заинтересованнаго, мы тоже вмѣшались въ нее. Въ центрѣ ея стоялъ какой-то дѣтина, отчаянно тараторившій и жестикулировавшій надъ ящикомъ, стоявшимъ на землѣ и покрытымъ обрывкомъ стараго одѣяла. Ежеминутно онъ наклонялся и самыми кончиками пальцевъ брался за уголъ этого одѣяла, какъ будто бы съ цѣлью показать, что тамъ не скрывается никакого обмана — и говорилъ, говорилъ, не переставая; и всякій разъ, какъ и я разсчитывалъ, что вотъ-вотъ, онъ сдернетъ это одѣяло и покажетъ намъ какой-нибудь фокусъ, онъ опускалъ одѣяло и выпрямлялся, не переставая работать языкомъ. Однако же, онъ открылъ, наконецъ, ящикъ, вынулъ оттуда ложку съ какою-то жидкостью, и протянулъ ее къ зрителямъ, чтобы показать, что никакихъ приспособленій у него тамъ нѣтъ, при чемъ языкъ у него заходилъ еще сильнѣе. Я не сомнѣвался, что онъ зажжетъ эту жидкость и затѣмъ проглотитъ ее, что меня чрезвычайно заинтересовало, но этотъ обманщикъ кончилъ тѣмъ, что подсыпалъ въ жидкость какого-то порошку и принялся полировать ложку! Затѣмъ онъ поднялъ ее надъ головою, при чемъ физіономія его выражала такое торжество, какъ будто бы онъ совершилъ какое-нибудь необычайное чудо. Толпа восторженно заапплодировала, и я подумалъ, что исторія, пожалуй, права, утверждая, что эти дѣти Юга такъ легко подаются увлеченію.
Мы съ наслажденіемъ провели около часу въ величественномъ соборѣ. Изъ высокихъ оконъ зданія, прорѣзая торжественный сумракъ, падали разноцвѣтныя косыя полосы свѣта и ложились яркими пятнами то на колонну, то на картину, то на преклоненную фигуру молящагося. Органъ гремѣлъ, кадила мелькали, на отдаленномъ алтарѣ сверкали свѣчи, а за алтаремъ въ молчаніи двигались въ облаченіяхъ священнослужители. Зрѣлище было торжественное, отгоняющее суетныя мысли и настраивающее душу на молитвенный ладъ. Въ разстояніи ярда или двухъ отъ меня остановилась молодая американка и, устремивъ свои глаза на мягкіе огни далекаго алтаря, молитвенно склонила на мгновеніе голову; затѣмъ выпрямилась, ловко подбросила каблукомъ свой трэнъ и, подобравъ его рукою, бодро зашагала къ выходу.
Мы посѣтили картинныя галлереи и другія обычныя «достопримѣчательности» Милана, не потому, чтобы я хотѣлъ снова описывать ихъ, а затѣмъ, чтобы знать, научился ли я чему-нибудь за двѣнадцать лѣтъ. Позднѣе, съ тою же цѣлью я посѣтилъ большія галлереи Рима и Флоренціи. Оказалось, что кое-чему я за это время научился. Прежде, когда я писалъ о старыхъ мастерахъ, я утверждалъ, что копіи лучше оригиналовъ. Это было громадною ошибкою. Старые мастера попрежнему не нравятся мнѣ, но теперь я нахожу, что они представляютъ поразительный контрастъ съ копіями. По отношенію къ оригиналу копіи то же, что новенькія, но безцвѣтныя и аляповатыя восковыя фигуры по сравненію съ настоящими живыми мужчинами и женщинами, которыхъ они имѣютъ претензію изображать. Въ старинныхъ картинахъ заключается какое-то богатство и мягкость красокъ и тоновъ, что производитъ то же впечатлѣніе на глазъ, какое смягченный отдаленный звукъ производитъ на ухо. Эти-то именно качества, которыхъ недостаетъ въ современныхъ копіяхъ и достигнуть которыхъ наши живописцы не могутъ даже надѣяться, и составляютъ главнѣйшее достоинство старинной живописи. Всѣ артисты, съ которыми мнѣ приходилось говорить, единогласно утверждаютъ, что эти богатство, мягкость и великолѣпіе красокъ въ старинной живописи зависятъ отъ времени. Но тогда зачѣмъ же поклоняться старому мастеру, который ничуть не виноватъ въ этомъ? Почему же не преклоняются тогда передъ старымъ временемъ, которое произвело всѣ эти достоинства? Быть можетъ, старинная живопись, пока время не смягчило красокъ, была не болѣе какъ грубая мазня, рѣжущая глазъ.
Въ разговорѣ съ однимъ художникомъ въ Венеціи я спросилъ, между прочимъ:
— Скажите, пожалуйста, что такое особенное находятъ у старинныхъ мастеровъ? Я былъ въ палаццо Дожей и видѣлъ цѣлыя акры плохого рисунка, весьма скверной перспективы и совсѣмъ невѣрныхъ пропорцій. Собаки у Поля Веронеза совсѣмъ не похожи на собакъ, а лошади — это какіе-то пузыри на четырехъ ногахъ; на одной фигурѣ правая нога у человѣка помѣщена на лѣвой сторонѣ его тѣла; на одной большой картинѣ, гдѣ императоръ (Барбаросса?) изображенъ распростертымъ передъ папою, три человѣческія фигуры на переднемъ планѣ имѣютъ не менѣе 30-ти футъ высоты, если судить до величинѣ маленькаго мальчика, стоящаго на колѣняхъ какъ разъ посрединѣ передняго плана; принимая тотъ же масштабъ, ростъ папы равенъ семи футамъ, такъ что Дожъ кажется передъ нимъ какимъ-то карликомъ не болѣе 4-хъ футовъ ростомъ.
Читать дальше