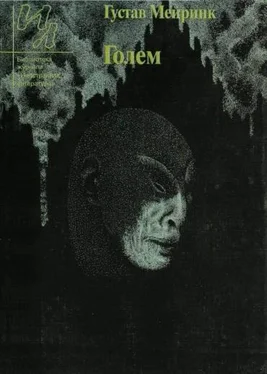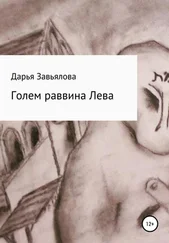Я хотел, как обычно, возразить, что он смотрит на мир сквозь черные очки, но он с улыбкой опередил меня:
— Это к лучшему. К тому же нет никакого удовольствия разыгрывать из себя лекаря-шута, а напоследок еще удостоиться и дворянского титула в качестве дипломированного клеветника. С другой стороны, — добавил он со свойственным ему черным юмором, — к сожалению, раз и навсегда можно пресечь всякую мою полезную деятельность. — Он взялся за шляпу. — Мне не хочется больше мешать вам. Или что-нибудь можно еще добавить по делу Савиоли? Не думаю. Во всяком случае, дайте мне знать, если проведаете что-нибудь новенькое. Лучше всего повесить зеркало здесь у окна в знак того, что мне следует прийти. Приходить в подвал ко мне вам нельзя ни в коем случае: Вассертрум тут же заподозрит, что мы заодно. Впрочем, весьма любопытно узнать, что он теперь собирается делать, пронюхав, что к вам пожаловала женщина. Скажите ему просто, что она принесла починить ожерелье, и если будет назойлив, разыграйте взбесившегося мужчину…
Никак не удавалось найти удобный повод предложить Хароузеку банкноты; поэтому я снова взял восковую формовку с окна и сказал:
— Пойдемте, я провожу вас вниз. Меня ждет Гиллель, — солгал я.
Хароузек оторопел:
— Вы с ним дружите?
— Немного. Вы его знаете? Или, может быть, тоже не доверяете ему? — Я невольно улыбнулся.
— Боже упаси!
— Почему вы сказали это так серьезно?
Хароузек помедлил с ответом и начал размышлять вслух:
— Сам не знаю почему. Должно быть, как-то неосознанно. Когда бы я ни встретил его на улице, мне всегда хочется сойти на мостовую и преклонить перед ним колени как перед священником, держащим просфору. Видите, мастер Пернат, перед вами человек, который — полная противоположность Вассертруму. Например, у христиан, как всегда тоже напичканных ложными слухами, он слывет скаредом и подпольным миллионером, хотя и беден как церковная крыса.
— Беден? — в испуге вскочил я.
— Конечно, и, возможно, еще беднее, чем я. Слово «приобретать», думаю, он вообще знает только по книгам, но когда он в первый день месяца возвращается из Ратуши, еврейские нищие бегут перед ним, потому что знают, что самым первым из них он сунет незаметно в руку все свое жалкое жалованье, а через два-три дня будет сам голодать вместе с дочерью. Если верно, как утверждает древняя талмудистская легенда, что из двенадцати колен израилевых десять прокляты, а два — святы, Гиллель — воплощение этих двух колен, а Вассертрум — десять остальных, вместе взятых. Вы еще никогда не замечали, как расцветает всеми цветами радуги Вассертрум, если мимо него проходит Гиллель? Занятно, скажу я вам! Видите ли, такое племя невозможно скрещивать ни с каким другим. Тогда бы дети рождались мертвыми. При условии, если мать не умрет от ужаса еще раньше. Впрочем, Гиллель — единственный человек, которого Вассертрум избегает — он боится его как огня. Вероятно, потому, что Гиллель для него означает непостижимость, полную неразгаданность. Может быть даже, он чует в нем каббалиста. Мы уже спустились с лестницы.
— Думаете, каббалисты еще не перевелись в наши дни — способен вообще кто-нибудь разбираться в Каббале? — спросил я, ожидая быстрого ответа, но он, казалось, не слышал меня.
Я переспросил.
Он резко обернулся и показал на дверь у лестничной клетки, обитую досками от ящиков.
— У вас теперь новые соседи, правда, еврейская, но бедная семья полоумного музыканта Нефтали Шафранека с дочерью, зятем и внучками. Когда стемнеет и он остается один с девчушками, на него находит дурь: он их связывает за большие пальцы, чтобы не убежали, втискивает в старую клетку для кур и наставляет их в «пении», как он это называет, чтобы позднее они сами могли зарабатывать на кусок хлеба. Иначе говоря, он их учит предурацким песням, существующим на немецком языке, по отрывкам, подслушанным им где-нибудь. В душевном помрачении он принимает их за прусские военные гимны или за что-то в этом роде.
В самом деле, за дверью еле слышно звучала странная мелодия. Смычок на высоких нотах непрерывно пилил в одном и том же тоне мотив уличной песенки, а два тонюсеньких детских голоска пели:
Дама Шпик,
Дама Шпок,
Дама Жо-бемоль —
Стоят они молчками
И чешут языками.
Это было так нелепо и комично, что я невольно рассмеялся.
— Зять Шафранека — его жена торгует на яичном базаре огуречным соком, который она разливает школьникам в рюмочки, — целыми днями мотается по канцеляриям, — мрачно продолжал Хароузек, — и выпрашивает старые почтовые марки. Потом он их сортирует, и если обнаружит среди них те, у которых только по одному краю остался след печати, он кладет марки друг на друга и разрезает. Нештемпелеванные половинки склеивает и продает как новые. Поначалу дело процветало, и в день он, бывало, выручал почти гульден. Но в конце концов большие еврейские дельцы в Праге про это пронюхали и сами взялись снимать с гешефта сливки.
Читать дальше