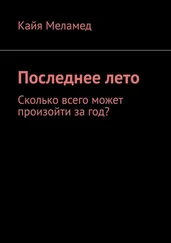— Поздравляю тебя вдвойне, — сказал он, пожимая руку Батюка.
Батюк довольно улыбнулся: после успешных действий в Крыму он наконец обрел на войне положение, которое считал для себя давно заслуженным.
То, что он командовал теперь гвардейской армией и имел орден Суворова первой степени и звание генерал-полковника, а Серпилин, одно время после Сталинграда догнавший было его в звании, оставался генерал-лейтенантом, — все это делало Батюка в его собственных глазах как бы вновь старшим по отношению к Серпилину, несмотря на их одинаковые должности командармов. Между ними вновь установилась та дистанция, которая позволяла Батюку без насилия над самолюбием вспоминать время, когда они служили вместе и Серпилин был его подчиненным.
— Как твое хозяйство? — спросил Батюк. — Многих поменял, когда пришел после меня?
— Я почти не менял, война меняла. Одних под Харьковом, других на Курской дуге.
Он назвал Батюку несколько старших офицеров, убитых или тяжело раненных и уже не вернувшихся в армию.
— Членом Военного совета по-прежнему Захаров?
— По-прежнему он, — кивнул Серпилин. — А начальника штаба армии из Москвы дали — некто Бойко, был полковник, ныне генерал-майор.
— Неудачный, что ли? — спросил Батюк, которому почудилась неприязнь в слове «некто».
Но Серпилин употребил это слово не из неприязни, а по давней привычке, оставшейся еще с царской армии.
— Напротив, удачный, — сказал он. — А про Пикина, наверное, сам знаешь, в приказе было.
— Читал. Подвел он тебя, сукин сын. — Счастье, что с рук сошло.
— Подвел, — согласился Серпилин. — Хотя в то, что сукин сын, не верю.
— Чего ж тут не верить? В приказе ясно сказано было, что попал в плен, имея при себе карту с обстановкой.
Серпилин поморщился. Сначала не хотел вдаваться в эту тяжелую историю, только чудом оставшуюся для него самого без всяких последствий. Но потом превозмог себя и сказал то, что думал и писал в своих объяснениях тогда, в марте сорок третьего, под Харьковом: зная Пикина, не верит, что тот, из-за ошибки летчика приземлившись на связном У-2 в расположении немцев, мог сдаться в плен, не уничтожив оказавшуюся при нем карту с обстановкой. Допускает обратное: не успел застрелиться и попал в плен потому, что в первую очередь спешил уничтожить эту карту.
— В приказе по-другому было. Что сдался в плен с оперативными документами.
— Было, — согласился Серпилин.
— Сами немцы у себя об этом писали. Оттуда и мы узнали.
— Писали, верно, — сказал Серпилин. — Но могли написать и для дезинформации, чтоб спутать нам планы. Раз попал в плен начальник оперативного отдела штаба армии, почему не написать, что с документами? Мы разве не пользовались случаем, не писали таких вещей?
— Все может быть, — сказал Батюк. — А не допускаешь мысли, что не случайно заблудились? Как ни говори, а все же в тридцатом году из кадров его вычищали — имели на то причины; до самой войны в запасе находился…
— Не допускаю. Столько раз видел его в боях, что не могу допустить.
— Так или иначе, а подвел он тебя крепко, — сказал Батюк. — Поторопился взять его на оперативный отдел.
— Это верно, поторопился.
Минуту или две после этого они продолжали идти рядом в молчании, за которым была отчужденность. Батюк с вдруг нахлынувшим раздражением за старое подумал, что Серпилин по-прежнему слишком много о себе понимает: «знаю», «видел», «не допускаю»… все «я» да «я». Считает в душе, как и раньше, что он всех умней.
А Серпилин шел и думал о себе и о Пикине: «Что верил ему и продолжаю верить — в этом прав. А что, получив армию, сразу взял к себе Пикина начальником оперативного отдела — это верно, поторопился. Начальник штаба был новый, незнакомый, захотел иметь рядом с ним своего человека, проявил пристрастие, вернее, слабость, в которой потом каялся. В дивизии Пикин был на месте, а на оперативном отделе растерялся от масштабов, тем более в неожиданно тяжелой обстановке под Харьковом. По своей вине опоздал довести до двух дивизий приказ об отходе, а потом, когда совсем потерял связь, сам напросился лететь туда: лично исправлять положение». И Серпилин на свою голову разрешил.
Потом ему хотели поставить это лыко в строку. А кончилось даже без выговора в приказе. Серпилин и до сих пор не знал до конца почему. Конечно, сыграло роль, что Захаров, как член Военного совета, написал во фронт то, что думал, как и всегда, не стремился угадывать, какие там у кого настроения. Но одного этого мало. Скорей всего — Серпилин уже не раз думал об этом, — когда доложили на самом верху, в Москве, Сталин, только недавно выдвинув тебя командармом, не отступился и не позволил сразу же снять. А что снять предлагали, сомнений нет. Ответственность на плечах лежала тяжелая. Одной своей верой в Пикина ее не снимешь, а других доказательств, кроме веры, нет.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу