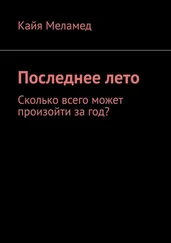Ее задело не то, что он оборвал ее и сказал «не трепитесь», а эти последние слова — насчет обстановки. Она услышала в них незаслуженный упрек себе, что находится здесь, в Архангельском, а не на фронте.
— К вашему сведению, — сказала она зло и спокойно, — я неделю назад прошла медицинскую комиссию и написала рапорт: прошу отправить меня снова в армейский госпиталь. Еще какие-нибудь вопросы есть?
— Прошу прощения. — Он ощутил глубину ее обиды. — Может, я выразился по-дурацки, но и вы меня тоже не по-умному поняли. Как могли подумать, что я вам, женщине, сделаю такой упрек? Не знаю, как кто, а я лично считаю, что по гроб обязан каждой женщине, которая пошла на фронт. И был бы рад обойтись без этого. Просто хотел сказать вам, чтоб старались освобождать себя от таких мыслей. Это закон войны, нельзя все время об этом думать.
— Хорошо, — сказала она, поверив, что он не отступил перед ее обидой, а действительно думает так, как сказал, и примирительно положила руку поверх его тяжело лежавшего на столе кулака. — Не обиделась. Поняла, вопрос исчерпан… И нечего на меня кулаки сжимать!
Он разжал кулак и усмехнулся.
— Это не на вас. На войну, наверно. — И мягко, другим голосом добавил про то же, о чем говорили до этого: — Вот вы про то, что гоним их к вам на стол. Да, гоним. Но сколько же перед каждой операцией ломаем голову, какая она ни на есть умная или глупая, — над тем, как сделать, чтобы он к вам на стол не попал! Грош цена тому, кто эти слова: «Беречь людей» — только для сотрясения воздуха произносит! Их не говорить, а закладывать в план операции надо! Так у нас, так и у вас, наверно. Разве у вас хорошим врачом считают того, кто громче всех над больным охает?
После этого как-то само собой зашла речь о том, почему она стала хирургом. Она сказала, что теперь, когда давно уже считает это своим призванием, трудно разобраться, как все было вначале.
— Я была близка с родителями, а наш дом жил медициной. Наверно, сыграла роль вера в них, в то, что эти два лучших на свете человека занимаются самым лучшим на свете делом. Да и студенты от нас не вылезали. Отец был из тех профессоров, к которым домой ходят…
Он перебил ее, спросил: живы ли родители? Она ответила, что нет, умерли оба, один за другим, в последний предвоенный год. И продолжала говорить о себе с готовностью, даже удивившей ее самое.
Начав вспоминать про свои два года на фронте, вдруг сказала:
— Хотя и расхвасталась тут перед вами, не думайте, что я человек без сучка и задоринки. Я и с сучками и с задоринками. Даже прошлой осенью, на сороковом году жизни, роман имела с одним выздоравливающим подполковником.
— Ну и как, он выздоровел? — как-то непонятно, по смыслу словно бы шутя, а по выражению лица серьезно, спросил Серпилин.
— Выздоровел.
— А вы? — спросил он так, что она почувствовала: нет, не верит в тот легкий тон, который она взяла, и понимает, что ей почему-то необходимо сказать ему об этом.
— Поставила точный диагноз и выздоровела, — ответила она все в том же легком тоне, от которого не могла избавиться. — Я же хирург, у меня все должно быть просто и ясно.
— Не верю тому, как вы говорите о себе, — сердито сказал он.
И правильно сделал, что не поверил. Все это было совсем не просто, и никакой она не хирург по отношению к себе самой; попробовала и не смогла отсечь в себе то чисто женское, что влекло ее к тому человеку, от всего остального человеческого, и тоже женского, что сопротивлялось в ней этой близости, догадывалась о его духовной нищете. Нравственной близости не могло получиться и не получилось, а физическая так быстро превратилась в какую-то торопливо повторяемую по ночам безрадостную гимнастику, что оборвать все это оказалось проще, чем длить. Она тогда бранила себя за это уродом и насмехалась над собой: занимаюсь решением душевных уравнений там, где все ясно как дважды два — четыре.
И вот с глупым видом согрешившей девицы зачем-то выложила все это перед человеком, который ей действительно и серьезно нравился, который сам никогда не спросил бы ее, сорокалетнюю женщину, ни о чем подобном. И вряд ли хотел слышать это от нее.
А все-таки она почему-то должна была сказать ему об этом. Не так по-глупому, но должна была. И не потому, что все это было так уж важно, а потому, что без этой недавней и неудачной попытки раздвоения на душу и тело она тоже не была бы самой собой. А он должен знать, какая она на самом деле. Иначе вообще все бессмысленно.
После того как он ей ответил «не верю тому, как вы говорите о себе», они оба долго молчали. Потом он сказал:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу