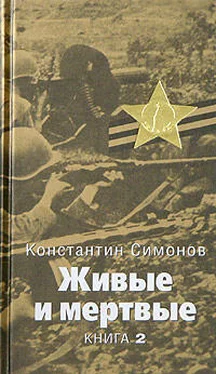Да, она сейчас стояла и ждала своего часа, и они наступали там, в крови и дыму. Но для того чтобы они могли сейчас, зимой, наступать там, она все лето и осень подставляла себя под миллионы пуль и десятки тысяч снарядов и мин, ее давили в окопах танками и живьем зарывали в землю бомбами. Она отступала и контратаковала, оставляла, удерживала и снова оставляла рубежи, она истекала кровью и пополнялась и снова обливалась кровью.
О нем говорят, что он умеет беречь людей. Но что значит — «беречь людей»? Ведь их не построишь в колонну и не уведешь с фронта туда, где не стреляют и не бомбят и где их не могут убить. Беречь на войне людей — всего-навсего значит не подвергать их бессмысленной опасности, без колебаний бросая навстречу опасности необходимой.
А мера этой необходимости — действительной, если ты прав, и мнимой, если ты ошибся, — на твоих плечах и на твоей совести. Здесь, на войне, не бывает репетиций, когда можно сыграть сперва для пробы — не так, а потом так, как надо. Здесь, на войне, нет черновиков, которые можно изорвать и переписать набело. Здесь все пишут кровью, все, от начала до конца, от аза и до последней точки…
И если превысить власть — это кровь, то и не использовать ее в минуту необходимости — тоже кровь. Где тут мера твоей власти? Ведь все же чаще не начальство или, на худой конец, трибунал определяют ее задним числом, а ты сам, в ту минуту, когда приказываешь! Начальство потом в первую голову считается с тем, чем кончилось дело, — успехом или неудачей, а не с тем, что ты думал и чувствовал, превышая свою власть или, наоборот, не используя ее.
Многие из тех решений и приказаний, в соответствии с которыми он обязан был действовать летом и осенью, казались ему сейчас не самыми лучшими, неверными, неоправданными. Но все же в конце концов в итоге все, вместе взятое, оказалось оправданным, потому что привело к той победе, о которой напоминал монотонный голос Пикина, уже подходившего к концу и читавшего теперь названия фронтов и фамилии командующих.
Да, оправдано. Но люди, люди!.. Если бы всех их оживить и посадить вокруг…
Он ощутил у себя за спиной молчаливую толпу мертвых, которые уже никогда не услышат того, что он слышит сейчас, и почувствовал, как слезы подступают к горлу.
А Пикин и Бережной, воевавшие вместе с ним с того первого июльского дня, когда дивизия вступила в бой, все-таки живые и здоровые, сидят сейчас здесь, рядом с ним, хотя нельзя сказать, чтоб щадили себя.
Вот сидит Пикин, сухой и прямой, как жердь. Начальник штаба дивизии — Геннадий Николаевич Пикин, который старше всех в штабе, потому что ему уже исполнилось пятьдесят. Сидит Пикин, который был штабс-капитаном еще в царской армии, а потом, в гражданскую, не воевал, а служил в запасном полку, потому что ему не доверяли, и, кто знает, может, тогда это было и справедливо.
Сидит Пикин, которого в двадцатые годы уволили из пехотного училища, потому что его жена была сестрой нэпмана, и ему пришлось жить заново, кончать заочный институт и по длинной канцелярской лестнице дослуживаться до главного бухгалтера наркомата.
Сидит Пикин, начавший войну бойцом ополчения и ставший начальником штаба дивизии, которому можно доверять как самому себе. В нем и сейчас, на войне, осталось что-то от главного бухгалтера и в смысле точности, и в смысле упрямства.
Сидит Пикин, бессонный и неутомимый, но никогда не забывающий вовремя поесть и выпить. Пикин со своей рыжей щеткой усов над губой, со своим сухопарым старорежимным лицом и тощей фигурой, за которую его дразнят в дивизии «Врангелем», со своими исправными письмами толстухе жене, о которой он говорит, что она в двадцатые годы была красивейшей женщиной Москвы, и со своей девчонкой из роты связи, которая неизвестно почему не чает души именно в нем, хотя могла бы влюбиться и в кого-нибудь помоложе.
И знающий о Пикине все, что можно и нужно о нем знать, Серпилин сейчас, глядя на него, испытывает благодарность к нему за то, что он остался жив и сидит здесь и дочитывает эту сводку.
И Бережной жив, хотя от него этого уже и вовсе трудно было ожидать, и тоже сидит здесь и слушает Пикина, и на глаза у него накатываются слезы, потому что он из тех, что и смеются и плачут без раздумий.
Бережной, с его снятым уже во время войны строгим выговором за брата, бывшего секретаря горкома в Донбассе, о котором он на памяти Серпилина так ни разу и не заговорил; в то, что брат — враг народа, видимо, не верит, сказать это во весь голос не может, а вполголоса не умеет.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу