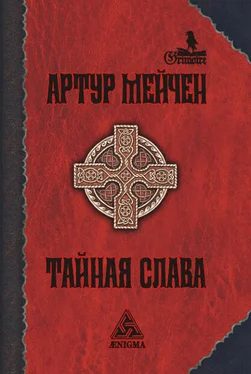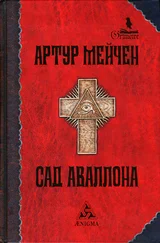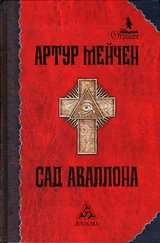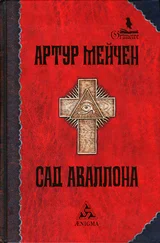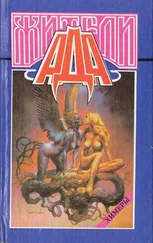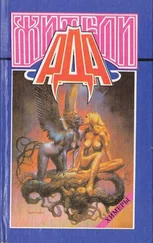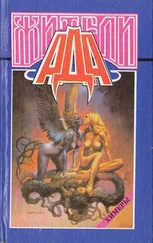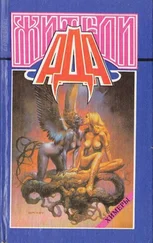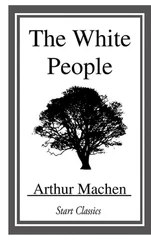"Помнится, был вечер четверга, — рассказывал Амброз спустя много лет. — Мы обдумывали, когда стоит отправляться в Турень: на следующее утро или самое позднее в субботу. Я никогда не забуду те яркие впечатления: помещение с низким потолком, опирающимся на дубовые балки, сверкающие пивные кружки, свисающий с потока хмель, и Нелли, сидящая передо мной и потягивающая душистый напиток из зеленого стакана. Это был последний вечер развлечений, и даже веселость шла вперемешку с необычными вещами — разговором француза о мученичестве, статуей указывавшего на причины своих страданий святого в окрашенных одеждах и с ликующим лицом; потом финальная песнь восторга и избавления, исполненная на церковных колоколах с белой колокольни. Мне кажется, торжественный оттенок этого заключительного явления превратил мое сердце в один горящий светильник. Я погрузился в то странное состояние, в котором человек радуется, когда его не понимают, — в частности, я рассказал бедняжке Нелли историю женитьбы Панурга на La Vie Mortale и уверен, она подумала, что я напился!
Домой мы возвращались в двухколесном экипаже и по дороге договорились, что выкурим по сигаретке и ляжем спать. Я решил, что завтра мы сядем на вечерний пароход, идущий до Дьепа [329], и мы вместе засмеялись от радости, предвкушая новые приключения. И тут — не помню, что послу жило толчком, — Нелли вдруг начала рассказывать о себе. Раньше она этой темы даже не касалась. Я никогда не просил ее, как не просил никого другого, просвещать меня на этот счет. Зачем? Вы знаете, есть категория романистов, которые любят использовать всякие там козни и интриги. В их историях счастье героя, как правило, рушится в тот момент, когда он узнает, что жизнь жены или возлюбленной не всегда была безупречна и незапятнанна как снег. Но почему она должна быть незапятнанна как снег? Что это за герой такой, которого нужно одаривать любовью райских девственниц? Я называю это лицемерием, и оно мне ненавистно; надеюсь, что ангелочек Клэр в конечном итоге попала в сети молодого человека из цирка Пиккадилли [330]— хотя она, быть может, слишком для него хороша! Таким образом, вы сами убедились, что я вряд ли стал бы задавать Нелли испытующие вопросы; у нас и без того было о чем поговорить.
Но в тот вечер, как я предполагаю, она была немного возбуждена. Мы провели бурную и замечательную неделю. Достаточно одного лишь перемещения от орошаемых травных лугов в Центральных графствах в Телемское аббатство [331], чтобы голова пошла кругом. Мы смеялись до колик. Наихудшим в порядках нашей жалкой школы было то, что она вынуждала каждого получать безумное и совершенно несоразмерное удовольствие от мелких вещей, от самых что ни на есть пустяков, которые нужно было принимать за нечто само собой разумеющееся. Уверяю вас, что каждая лишняя минута моего лежания в кровати после семи часов была для меня словно крупица рая, моментом наивысшего наслаждения. Конечно, это покажется смешным. Стоит позволить человеку вставать рано или поздно, как ему нравится, или как он считает для себя удобнее, и вопрос будет исчерпан. Но в несчастном Люптоне ранний подъем занимал существенную часть наших досужих и вздорных пересудов и сделал жизнь там подобной затянувшемуся обеду, где все блюда подавали под одним и тем же соусом. Этот соус мог быть и не плохим, но у всех он вызывал болезненное неприятие. Наши школьные бонзы утверждали, что ранние подъемы зимой — высокая добродетель, приобретаемая привычкой. Думаю, мне самому нравилось бы сидеть в жестком кресле, если бы один из наших старых дураков — Палмер — перестал постоянно бормотать о страшной роскоши некоторых из воспитанников, у которых в кабинете стояли мягкие кресла. Пока вы придумывали разные способы лишить себя каких-нибудь удобств, он обычно говорил, что вы походите на "поздних римлян". Я убежден, он свято верил, что сумасшедшие, купавшиеся в Змеином ручье на Рождество, прямиком попадут на небеса!
И вот вам: я по привычке вставал в семь утра и смеялся, когда до меня доходило, что я не на Литтл-Рассел-Роу, а в Старой усадьбе. После этого я спал на ходу и пробуждался через регулярные интервалы — в восемь, в девять, в десять — и смеялся в душе от все возраставшего удовольствия. То же самое было с курением. Я думаю, что не прикоснулся бы к сигарете еще многие годы, если бы в декалоге нашего заведения для сумасшедших курение не считалось одним из смертных грехов. Не берусь судить, плохо ли курение сказывается на здоровье мальчиков, однако всегда полагался в этом вопросе на мнение голландцев: крепкие ребята начинают пыхтеть толстыми сигарами лет с шести или около того; но я точно знаю, наши надутые старые дуралеи, болваны и лысые черепа придумали лучший способ заставить мальчиков считать, что пачка "Rosebuds" [332]содержит в себе квинтэссенцию непередаваемых восторгов.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу