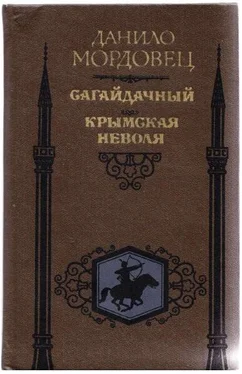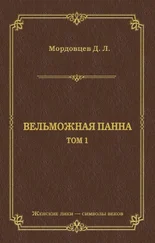Видела в своих стенах Феодосия и гордого Митридата, царя понтийского, и не менее гордых, но, быть может, более глупых солдафонов — римских консулов.
Потом нагрянули в благословенную Тавриду и в Феодосию наши молодцы — гунны, и как вообще наши молодцы, где бы ни проходили, то все делали чисто, потому что всегда рады стараться — то они постарались: голых Афродит и Амуров попривязывали к конским хвостам, а все остальное в лоск положили... «Бей их, льстивых гречишек, растак их»...
От Феодосии осталась только куча развалин...
После выросла тут маленькая деревенька Кафа, о которой упоминает Константин Багрянородный, но уже хлебушком нашим предкам торговать было не с кем. [23]
Потом опять пришли наши — уже наши поляне и кияне — основали Тмутараканское царство, «измерили море по льду», пригрозили тмутараканскому болвану и загадывали что-то впредь... [24]
Но тут случилось нечто: пришли к нашим уже не наши, а восточные человеки — чингисханы и батыи — и наши, вложив свою богатырскую шею в ярмо, забыли и о тмутараканском болване, и о Кафе.
Но и о ней вспомнили новые торгаши средних веков — генуэзцы, и Кафа, Кефа уже, как феникс, возникла из пепла. Это было нечто волшебное, чарующее. Вся роскошь, все искусство, дворцы, храмы, статуи, фонтаны — все, чем так гремели в средние, золотые свои века Генуя, Венеция, Рим, все это пересажено было в Тавриду, в Кафу, и Кафа стала обширным, богатым городом, дорогим алмазом среди итальянских колоний...
Как древняя Феодосия видела в стенах теснимого римлянами Митридата, так генуэзская Кафа видела в своих стенах безбожного сыроядца Мамая, разбитого русскими на Куликовом поле и укрывшегося в Кафе, где генуэзцы и порешили этого страшного зверя... [25]
В 1475 году, когда турки угрожали потоптать ногами и копытами своих коней всю Европу, они отняли Кафу у генуэзцев. И стала Кафа — Кефе — гордость и слава правоверных. К тому, что дали Кафе генуэзцы, турки прибавили еще своего, своей роскоши и своего восточного блеска: воздвигли богатые мечети с высокими минаретами, роскошные здания бань... И стала Кефе Крым-Стамбулом, или Кучук-Стамбулом, — малым Константинополем... Она насчитывала в себе до восьмидесяти тысяч жителей; в ее порту часто стояло до семисот судов... Богатство и внешняя роскошь поражали глаз, пугали непривычного...
И вот этот-то волшебный город предстал во всей своей чарующей красе и во всем своем многолюдстве перед глазами наших «сіромах» — Сагайдачного и Олексия Поповича.
Пройдя вместе с прочими, сновавшими из города в город, под массивными крепостными воротами, татарами, турками, армянами, греками и эфиопами в своих до невообразимости пестрых нарядах и лохмотьях, наши казаки вступили в кипучий, блестящий и смрадный, полуевропейский, полуазиатский муравейник, который оглушал и ошеломлял разнообразием, дикою нескладностью шума, говора, криков, возгласов и какой-то адской музыки, которою звучали узкие, запруженные народом и скотом улицы, широкие, как бы заваленные снующим и гамящим людом площади и площадки. Лязг и брязг всевозможного оружия, железа, стали, меди, серебра и золота, которым обвешивал себя дикий человек, живший больше чужою кровью, чем своим трудом и потом, скрип арб, способный вымотать всю душу, ржание лошадей, ослиный рев, крики погонщиков, водоносов, всевозможных продавцов, хлопанье бичей, дикие взвизги и выкрикиванья дервишей, около которых толпились кучи ротозевающих правоверных, и в довершение всего этого ноющий и режущий душу скрипучий невольницкий плач где-то, который отчетливо выделялся из этого адского хаоса звуков и точно резанул по сердцу наших казаков, — вот первое, что встретило их в этом городе неволи и христианского плача. Самое роскошное воображение поэта не может представить себе того, что поражало наших странников на каждом шагу: роскошные генуэзские здания и дворцы, испещренные и обезображенные восточною, какою-то сверкающею, режущею глаз роскошью, золото и грязь, гранит и мусор, шелк, весь залитый золотом, и нагота, загорелая, пыльная, жалкая нагота, сквозящая и сверкающая из-за лохмотьев; жаркое солнце, еще ярче выставляющее всю эту дикую пестроту, громоздкость и грубую раззолоченность; наглые лица пашей и янычар; черные со страшными белками курчавых евнухов и пугливые, приниженные лица рабов и невольников; журчащие фонтаны и где-то знакомый плачущий под треньканье бандуры голос — свой, родной голос среди этого ада чуждых звуков и голосов; красные, словно кровавые, фески на черномазых лицах, раззолоченные и увешанные шнурами и всякой мишурой куртки, пестрые, белые, зеленые чалмы над седыми и красными бородами и горящими диким блеском глазами азиатов, яркость позументов на кафтанах и халатах, позолоченный сафьян богатого сапога и плетеный из осоки лапоть пленного москаля, оружие на золотых цепях пашей и железные цепи на ногах и на руках, а иногда и на горле у людей; лошади, наряженные в шелк и златоглав [ Златоглав — разновидность парчевой ткани с золотой ниткой ], и людские спины, ничем, кроме рубцов от плетей, не прикрытые; чудные, но грустные кипарисы, и в тени их — эти стонущие голуби, которые не похожи на их голубей, на украинских, как кипарисы не похожи на милую, родную вербу в леваде — все чужое, все поражающее, страшное, роскошное, цветущее, сверкающее — и все враждебное, злое, немилое этим самым блеском и роскошью, режущее этой яркостью и сверканием, утомляющее и слух и зрение, поражающее контрастом рая и ада, бешеного, безумного довольства и такого же безумного горя, которого не выплачешь, не выкричишь, и — ни одного женского личика...
Читать дальше