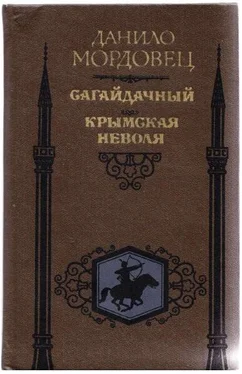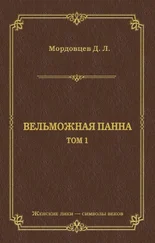— Нет, батьку, чайки у нас на татарву да на туреччину!
— И сабли, и самопалы? Более горячие из казаков тотчас же поставили вопрос на прямую дорогу.
— Так пускай Сагайдачный и ведет нас в море! — раздались голоса.
— Долой Небабу! Долой Нечая! Долой Мазепу! Пускай Сагайдак отаманует!
— Сагайдачного! Сагайдачного, братцы, выберем!.. Пускай он панует!
— Сагайдачному булаву! До булавы надо голову, а у него голова разумная, добрая!
— Сагайдачного, братцы, сто копанок чертей! — подтвердил и сам Небаба.
— На что лучшего!
— Сагайдак! Сагайдак! Го-го-го! — заревела, как бы осатанев, вся площадь, и шапки, словно тучи испуганных птиц, полетели в воздух.
Избрание Сагайдачного таким образом состоялось: метание вверх шапок было знаком, что этого требует народная воля — поворота для избранного уже не было.
Сагайдачный стал было кланяться, просить, чтобы его освободили, говорил, что он уже стар, недобачает, и булаву в руках не удержит... Ему тотчас же пригрозили смертью.
— В воду его, старого собаку, коли не берет булавы! — раздались нетерпеливые голоса.
— Кияками его, мат-тери его хиря!
Как ни обаятельна и ни заманчива власть вообще, но власть над казаками было дело страшное, и ни для кого не было так тяжело бремя власти, как для казацкого батька — для кошевого или для гетмана. Они по справедливости могли сказать: «О, тяжела ты, булава гетманская!» Уже самый процесс избрания был сопровождаем такими подробностями, которые могли испугать всякого, даже далеко не робкого. Уж коли кого казаки излюбили и обрали на атаманство — так повинуйся, а то сейчас же проявит себя народная воля — или киями забьют до смерти, или в Днепре утопят. А принял булаву, покорился — выноси личные оскорбления и всякие казацкие «вибрики» и «примхи»: новоизбранного диктатора и сором обсыпают с головы до ног, и грязью лицо ему мажут, и бьют то в ухо, то по шее, чтоб он помнил, что народ дал ему власть и что народ может и взять ее обратно у недостойного. Зато, когда весь обидный процесс избрания кончен, кошевой становился в полном смысле диктатором: казаки трепетали от него. Он вел их, куда хотел: ему повиновались беспрекословно, но зато всякая неудача падала только на его голову — он за все был в ответе. Оттого редкий кошевой кончал собственной смертью.
Сагайдачный очень хорошо знал эту страшную ответственность власти, как равно и неизменность народной воли — и с решительным мужеством поднял голову.
— Пусть будет так, вельможная громада, я принимаю войсковые клейноды [ Клейноды — атрибуты власти ]: на то воля божия, — сказал он и поклонился на все четыре стороны.
Опять туча шапок полетела в воздух. Послышались неистовые возгласы:
— На могилу нового батька! На могилу кошевого!
— На козацкий престол нового кошевого! Пускай высоко сидит над нами!
— Возы давайте! Землю на могилу копайте!
Московские послы, слыша эти возгласы, никак не могли понять их значения и с изумлением переглядывались: зачем могила? Кому копать могилу? Разве старому кошевому? Так его нет уж — утопили в Днепре, как щенка...
Откуда ни взялись возы, влекомые самими казаками что за диво! Возы очутились в середине казацкого круга. Казаки, поставив их по два в ряд, опрокинули вверх колесами.
— Пускай так догоры ногами Орду ставит!
— И туреччину!
— И ляхов догоры пузом!
И казаки, вынув из ножен сабли, стали копать ими землю, где кто стоял. Землю набирали в шапки, в приполы, тащили к возам и бросали ее на возы, как бы засыпая покойника в яме. Эта мысль бродила и в голове Сагайдачного, который с Мазепою и куренными атаманами стоял в стороне и задумчиво смотрел, как казаки засыпали возы землею. Ему вспомнилась кобзарская дума, в которой жалобно поется, как казаки своего брата-казака, убитого татарами, «постріляного-порубаного», в степи хоронили, закрыв ему глаза «голубою китайкою», как они острыми саблями «суходіл копали», и эту землю шапками и приполами таскали, и своего бедного товарища засыпали...
Горькое чувство сдавило ему сердце. Перед его глазами как бы разом пронеслась картина его бурной казацкой жизни, которая всеми своими кровавыми сценами не могла вытеснить из его души далеких светлых воспоминаний детства — белую отцовскую хату в Самборе, добрые, ласковые глаза матери, высокие, серые с темною зеленью горы, беленькую церковку, где он своим юным, свежим голосом подпевал дьячкам на клиросе, а потом в качестве молодого рыбалты [ Дьячок, псаломщик (пол.) ] читал апостол... Вспомнился ему почему-то и польский коронный гетман, гордый воевода Жолкевский, тогда еще молодой паныч, но и тогда гордый, надменный... Вспомнились и жгучие минуты мимолетного счастья... А теперь он вон в какой славе! Какую высокую могилу для него копают! А смерть за плечами...
Читать дальше