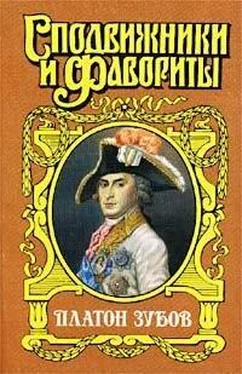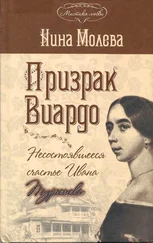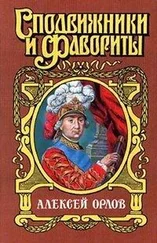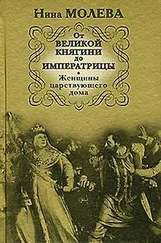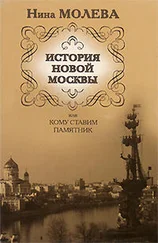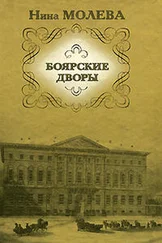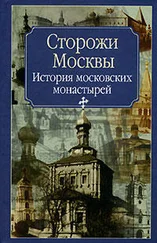— Перестань причитать, Марья Саввишна. Иди с Богом. Еще хуже тоску нагнала. — «А с питьем-то как, государыня?» — Простокваши поставь. Иди, иди и дверь поплотней притвори. Ничего со мной не будет. Обещаю. Не карауль зазря.
О Зориче, поди, не стала бы так вспоминать. Да и никто другой. Теперь понятно стало: чего папа ни делал, чтобы Завадовского опорочить. Государственными делами стал интересоваться. С послами иностранными дружбу завел. Так и появился этот дикарь. При других обстоятельствах, может быть, и не взглянула бы, а тут… Наваждение. Чистое наваждение.
Умел папа сказки сказывать. Серб. Герой. Настоящего имени и не выговоришь. Спасибо, дядюшкино попроще. Шестнадцати лет в Семилетней войне участвовать стал. Сразу был ранен, из плена выбрался, подпоручиком за смелость в бою стал.
Чего только дальше не было! Не врал папа — проверяла. Зверь настоящий. Татар в Бессарабии разбил. Туркам через Прут переправиться не дал. Без малого пять лет в Константинополе в Семибашенном замке в темнице отсидел — до самого Кучук-Кайнарджийского мира. Потемкин его привез, весь Петербург в смятение привел. Росту огромного. Косая сажень в плечах. Руки раскинет — впору медведя обхватывать. Грудь исполосована. Гордился: ни единой царапины на спине. От врага не бегал. А вот грамоты никакой. Что писать, что читать — пусть другие. Политесу знать не знал, да и учиться не хотел. Мое, говаривал, дело в бою. Командование над лейб-гусарами, а там и над казачьими командами с охотой принял. В казармах дни и ночи пропадал. Дом, что для Васильчикова отделывался, к нему перешел. Не очень-то и благодарил: мол, что мне в нем. Речей амурных отродясь не слыхивал, зато…
Испугался папа. Начал недостатки у дикаря выискивать. Там слово скажет, там крючочек закинет. Дикарь дикарь, а понял, откуда ветер дует. На папу при всех кинулся. Уж на что папа силен, а противу серба не устоял. Еле разняли.
Жаль было расставаться, но делать нечего. Придумала вояж ему заграничный. Для образования. Сам понял: не житье ему во дворце. Согласился. С миром уехал. Пенсион высокий получил, семь тысяч душ крестьян на отходную.
Прощальной аудиенции давать не хотела: кто знает, что дикарю в голову вступит. Сам камер-лакеев раздвинул, гвардейцев. В убиральную вошел — слова не сказал. Поглядел, рукой махнул. Марью Саввишну с пола поднял, трижды расцеловал. Надо бы ему хоть слово вымолвить! Ждать не стал: дверь большую в антикамеру тихо-тихо притворил. К горлу подступило: не императрица выиграла — князь Григорий Александрович победу одержал. Большую победу. Не бывать второму Зоричу. Не бывать…
К лучшему. Или — к худшему. Время покажет. Над суевериями смеялась. Какие приметы? Для образованного человека? Но что-то таилось в белых ночах. Во время них приходили и уходили близкие люди. Скажем, не близкие, пусть ненадолго входившие в твою жизнь. Завадовский… Дикарь… Пирр, царь Эпирский…
Почему придумалось такое имя? Царь, сражавшийся, побеждавший и никогда ничего не выигрывавший. Погибший в суматохе отступления, когда пришлось снять ненужную ему осаду Спарты. Злая ворожба? Григорий Александрович заторопился. С отъездом дикаря представил на выбор трех кандидатов в флигель-адъютанты. Велел явиться всем троим. Выстроиться в антикамере. Предупредил: Бергман — лифляндец, Ронцов — побочный сын графа Воронцова, Римский-Корсаков — кажется, прямо явившийся от французского двора. Поговорила для порядка с каждым. Одарила улыбкой. Дала приложиться к руке. Условный букет передала Корсакову: пусть отдаст Григорию Александровичу. Склонился в танцевальном поклоне. Взмахнул рукой. Прижал букет к сердцу: «Ваше величество, меня коснулся луч ярчайший, чем солнечный. Это мгновение останется лучшим в моей жизни: вы подарили счастье…» Знал. Обо всем наперед знал. Не смутился. Не залился краской. Знал и то, чем одарила его натура: изяществом — не совершенством черт, непритязательной любезной болтовней — не умной беседой. И за отведенные ему природой рамки не переступал никогда. Пел — что твой соловей. Играл на скрипке. Менуэтов таких дворец не видывал. И никем не хотел казаться. Был собой. Только собой.
В Васильчиковском доме на Дворцовой площади — теперь он к нему перешел — библиотеку положил устроить. Преогромную. Чтоб никак не меньше дворцовой. Книгопродавца позвал, велел все шкафы книгами наполнить. Какими? Его дело, лишь бы по размерам стояли: внизу большие волюмы, чем выше, тем меньше. Словом, как у государыни. Книгопродавец смутился: так сразу не подберешь. Почему же? Вези все, что в лавке твоей есть. Там и увидишь, где чего не хватает. Не поверила. При случае сама Эпирского спросила. А как же, отвечал, иначе поступить было. Одной скрипкой дорожил. Строганов уверял: дивный инструмент. Редкостный. Может, потому и слушать его одного могла. От других скучать принималась. Так Гримму и писала [12] Гримм Фредерик Мельхиор (1723–1801), барон, литератор, один из участников кружка энциклопедистов, главный из европейских корреспондентов и советников Екатерины II.
, помнится, что все живописцы и скульпторы должны делать его своей моделью, поэты — воспевать дивную красоту. Четверть века разницы — Гри. Гри. не удержался заметить. Не императрице — другим говорил. Четверть века? Нет, глупости. Первый раз юность почувствовала. Легкость, которой не знала. Будто крылья развернулись, зашелестели, от земли оторвали. Не ночей — вечеров как счастья ждала. Все балы сократила. Все приемы. Лишь бы скорее. Лишь с глазу на глаз остаться. В глаза яркие, веселые заглядеться.
Читать дальше