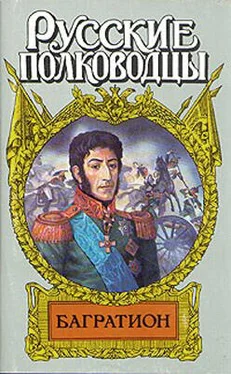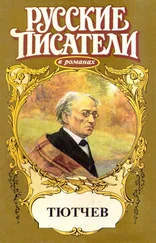— Таким вот макаром я в первую же брачную ночь и свою жену удивил. Она, значится, на кровати, а я тут же, в опочивальне, только на полу, на охапке сена. «Ты что же, вроде бы в генералах ходишь, а беден? На соломе спишь?» Ответил ей: для закалки характера начал спартанскую жизнь с малых лет, еще отроком. Вот, дескать, до сорока трех лет дожил — никакая простуда и иная хворь не берет. Иди, мол, ко мне, женушка, спробуем на сене, как оно мило и приятно в связях с матерью-природою себя находить… Да только, знать, против природного естества обернулась женитьба — был бобылем до пятого, считай, десятка, бобылем и кончаю свою жизнь. Ты, князь Петр, чаю, еще не женатый?
— Тоже уже не первой молодости жених, ваше сиятельство, тридцать четыре года имею от роду, — ответил Багратион. — А время, когда бы семью заводить, растрачено на походы. Впрочем, почему же растрачено? Так говорить, коли походы и вся военная жизнь — в тягость. А ежели походы и сражения — желанная моя судьба? Тогда полк — вот она, моя планида. И выходит, как в солдатской припевке, «наши жены — ружья заряжены, вот где наши жены».
Суворов положил желтую, всю в синих жилах руку на Багратионово плечо.
— Вот что я в тебе сразу, с первой же встречи под Очаковым, углядел — военную кость! Таких Господь производит на заказ, поштучно. Иного с пеленочного возраста записывают в сержанты, и сам он, повзрослев, вытягивается на всяческих вахтпарадах — и, глядишь, в царевых уже адъютантах. А — тонка кишка! Не тот, брат, калибр. Мы же с тобою начали прямо с нижних чинов. Зато каждый закоулочек солдатского житья-бытья высмотрели, всю тонкость службы нелегкой вынесли на собственных плечах. И это уж точно: нашими женами, видать, до конца наших дней останутся ружья заряжены… Только, князь Петр, все же существует на свете счастье, что ни полком, ни ружьями не заменить. Для меня такая радость — моя Суворочка, Наташенька, доченька моя…
Нелепо, считай, с самой той брачной охапки сена сложилась семейная жизнь Александра Васильевича. Самому недосуг было — все войны и войны, так что невесту сыну подыскал отец, Василий Иванович. Красавица русского типа — статная, кровь с молоком, лишь умом ограниченна и избалованна. Мать — из рода Галицких князей, родня — тоже князей Куракиных, графов Паниных. Отец — отставной генерал-аншеф Иван Андреевич Прозоровский, тоже князь.
Варваре шел двадцать четвертый год, жених оказался мало того что на двадцать лет старее — некрасив, малорослый, весь кожа да кости. И пошла молодая женушка заглядывать по сторонам, на рослых да пригожих.
Как такую дома оставить, когда сам — в поход? Возил с собою по палаткам да чужим хатам, где становился на постой. Но и там Варюта находила утеху — офицеров вокруг полно. Раз даже чуть ли не с поличным поймал. Разрыдалась, сказав, что нахал ею силой овладел. Стыд и срам! Одно твердо решил: разводиться и Дочь от нее, развратной, забрать!
Взялась мирить сама императрица. Он же — ни в какую. «Коль хочешь, матушка, сделать добро, определи Суворочку в Смольный институт. А после и жениха хорошего подберем. Станешь ей, моей доченьке, посаженой матерью».
Так, собственно, в конце концов и произошло. Надо правду сказать: государыня не оставляла вниманием девушку. Частенько в Эрмитаже зачитывала вслух письма, что писал дочери отец с военного театра. А письма те — воплощение безмерной любви и ласки.
«Суворочка, душа моя, здравствуй!.. У нас стрепеты поют, зайцы летят, скворцы прыгают на воздух по возрастам: я одного поймал из гнезда, кормили из роту, а он и ушел домой. Поспели в лесу грецкие волоцкие орехи. Пиши ко мне изредка. Хоть мне недосуг, да я буду твои письма читать. Молись Богу, чтоб мы с тобой увиделись. Я пишу тебе орлиным пером; у меня один живет, ест из рук. Помнишь, после того уж я ни разу не танцевал. Прыгаем на коньках, играем такими большими кеглями железными, насилу подымаешь, да свинцовым горохом: коли в глаз попадет, так и лоб прошибет. Послал бы к тебе полевых цветов, очень хороши, да дорогой высохнут. Прости голубушка сестрица, Христос Спаситель с тобою. Отец твой Александр Суворов ».
Писалось сие с войны. И об игре большими кеглями железными да свинцовым горохом — невзирая на девический возраст и нежную душу.
«Любезная Наташа! Ты меня порадовала письмом… Больше порадуешь, как на тебя наденут белое платье, и того больше, как будем жить вместе. Будь благочестива, благонравна, почитай матушку Софью Ивановну, или она тебя выдерет за уши да посадит на сухарик с водицей. Желаю тебе благополучно препроводить святки… У нас все были драки сильнее, нежели вы деретесь за волосы; а как вправду потанцевали, то я с балету вышел: в боку пушечная картечь, в левой руке от пули дырочка, да подо мною лошади мордочку отстрелили; насилу часов через восемь отпустили с театру в камеру. Я теперь только что поворотился, ездил близ пятисот верст верхом в шесть дней, а не ночью. Как же весело на Черном море, на лимане! Везде поют лебеди, утки, кулики, по полям жаворонки, синички, лисички, а в воде стерлядки, осетры — пропасть! Прости, мой друг Наташа; я чаю, ты знаешь, что моя матушка государыня пожаловала Андреевскую ленту за веру и верность…»
Читать дальше