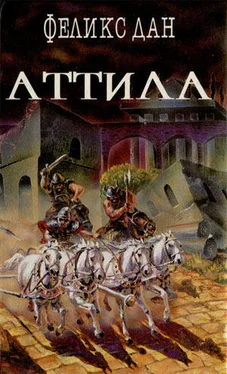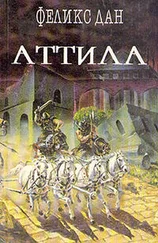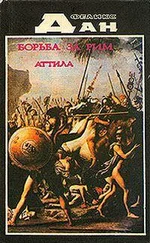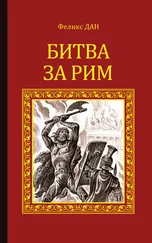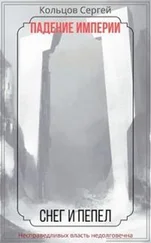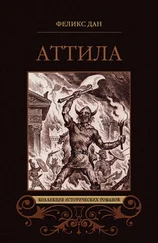Как ужаленная ядовитой змеей, отшатнулась Амаласунта от своей прекрасной дочери.
— Замолчи, дерзкая и неблагодарная девчонка! — бешено вскрикнула она. — Я не хочу слышать ничего больше. Ты же выслушай мое последнее слово. Ты не хотела согласиться на просьбу матери, так повинуйся приказанию королевы. Как мать твоя, как королева готов и глава рода Амалунгов, я обязана беречь наше доброе имя от твоих диких выходок. Для этого я отсылаю тебя из Равенны, где ты находишься слишком близко от таинственного возлюбленного, имя которого ты, очевидно, стыдишься назвать. Ты поедешь во Флоренцию, к супруге герцога Гувтариса и выедешь завтра же. Я сама выберу твоих спутников, надежных людей, неспособных потворствовать твоим капризам. Во Флоренции ты встретишь графа Арахада и примешь его предложение! Ты примешь его, если не хочешь провести остаток жизни в монастыре.
— Лучше монастырь, чем измена своей любви, — кротко, но твердо прошептала Матасунта.
Правительница громко засмеялась недобрым смехом.
— Это легко сказать, но трудно сделать, душа моя, — насмешливо ответила она. — Время согнет тебя или сломает.
— Нет, матушка… Ничто и никогда не согнет твоей дочери, — все так же кротко произнесла красавица. — Если же судьба присудила мне сломиться, то… Дай Бог, чтобы тебе не пришлось пожалеть о том, что ты пожертвовала материнским долгом своему властолюбию.
Почтительно склонилась златокудрая головка перед правительницей, и сказочная красавица, гордость готского народа, медленно вышла из покоев матери…
Амаласунта осталась одна. По лицу ее пробежала тень…
Последние слова дочери упали на ее сердце как тяжелый и заслуженный упрек.
— Нет, не властолюбие руководит мной, — прошептала она, медленно подходя к громадному серебряному зеркалу, украшающему одну из стен роскошного покоя. — Чувство более высокое руководит моей волей: сознание моего права управлять готами, сознание уменья вести мой народ по пути славы и успехов… Да, я чувствую, что могла бы быть для моего народа тем же, чем был мой славный отец, хотя и на другом поприще… О, если бы только готы поняли меня. Если б они поверили тому, что для счастья родного народа, для спасения величия готов, я бы с радостью отдала и власть, и корону, и даже жизнь свою!
Правительница так глубоко задумалась над этим роковым вопросом, что не заметила, как снова приподнялась ковровая занавесь, только что опустившаяся за сказочной красавицей, ее дочерью, пропуская в комнату высокую, слегка сгорбленную фигуру старика, с бледным, утомленным, умным лицом и добрыми проницательными глазами.
— Привет тебе, государыня! — произнес Кассиодор глухим, точно надтреснувшим голосом, при звуке которого Амаласунта невольно побледнела.
— Кассиодор, ты? С какими вестями?
— С печальными, государыня, — тихо произнес старый друг и советник Теодорика.
Правительница гордо подняла голову. Наступала опасность. Ее энергия сразу вернулась к ней.
— Говори, старый друг. Я могу все выслушать! — произнесла она, опускаясь в кресло и милостивым знаком руки приглашая старика сесть напротив нее.
Но Кассиодор остался стоять. Торжественно и сурово заговорил он, глядя прямо в глаза правительнице.
— Государыня, я должен предложить тебе один вопрос. Прошу тебя, выслушай меня и ответь. Я думаю, что заслужил этой милости своей службой твоему отцу и тебе.
— Говори! — повторила Амаласунта. — Я знаю, что у меня нет друга вернее тебя, отец и учитель мой…
— Ты знаешь, государыня, — начал Кассиодор, — сколько лет служил я твоему отцу верой и правдой, Я, римлянин, служил готу, завоевателю, поработителю Рима. Но я видел, как мудр и справедлив был этот завоеватель, и понимал, что Италия должна была выбирать между двумя владыками, и я предпочитал рыцарски храбрых и великодушных воинов-готов лукавым, жадным и хитрым торговцам-византийцам, жестоким и безжалостным к побежденным. Я предпочел зависимость от великого Теодорика бесславному рабству, грозящему нам от Византии. И чем ближе узнавал я твоего великого отца, тем ниже преклонялся перед ним! О, мой возлюбленный государь! Ни одной несправедливости не сделал ты за свою долгую жизнь. Даже тогда, когда лилась кровь соотечественников и друзей моих Боэция и Симаха, я должен был сознаться, что смерть их была законной карой за измену, что приговор вынесен был правильно, справедливым судом… Я мог оплакивать смерть братьев моих, но не мог упрекнуть твоего отца ни в жестокости, ни в убийстве, как упрекают тебя, Амаласунта, твои подданные — готы. Я долго не хотел верить слухам. Ты знаешь, что меня не было в Равенне, когда была получена страшная весть об убийстве всех Балтов. Когда я вернулся после долгого отсутствия, то не знал, что отвечать на обвинения, сыплющиеся на тебя. Долго колебался я, боясь оскорбить тебя моими подозрениями. Но доказательства усиливаются, и моя совесть не дает мне покоя. И вот, я решился спросить у тебя откровенно, Амаласунта, ты ли послала убийц? Не сердись на меня, государыня. Никогда не усомнился бы я в тебе, если б не нашел тебя так страшно изменившейся. Так меняются только те, кому не дает покоя нечистая совесть.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу