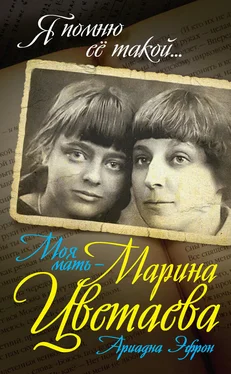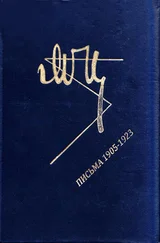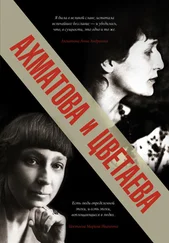Лестница эта, увенчанная мозаичным куполом, была чудесна сама по себе, но главным ее чудом было то, что вся она, во всей стройности и строгости своего подъема, во всем праздничном, ярком чередовании света и тени на полированных плоскостях ее ступеней служила лишь пьедесталом стоявшей на верхней площадке фигуры.
То была статуя Самофракийской победы – к ней-то и подвел Исаакян Цветаеву – и остановил, положив ей на плечо ладонь, ибо Победа эта была столь огромна, что легко было, осознав лишь ее подножие – из каменных блоков слаженный нос корабля-триремы, – обогнуть его, так и не взглянув вверх.
Обезглавленная и безрукая, грубо изувеченная христианским варварством, оббитая и выщербленная прошедшими по ней тысячелетиями, ликующая богиня остановилась на бегу, чтобы протрубить победу, и триста лет до нашей эры отбушевавший ветер облепил ее юное, торжествующее тело складками одежды, влажной и отяжелевшей от брызг прибоя, затрепетал в ее широко и сильно раскинутых крыльях, ероша их мраморные перья.
Все в ней было движение, упругость, устремленность; все было живо; все было цело, цельно и неодолимо в этой фигуре, поднявшей и согнувшей в локте невидимую руку, чтобы, приложив к невидимым устам незримую трубу, возвестить на века вечные торжество человеческого духа, мужества, гения.
– Ну как, Марина Ивановна? – спросил Исаакян.
– Я давно ее знаю и люблю, – ответила она, поглаживая шершавую, в мелких оспинках, желтоватую от времени поверхность каменной ткани. – И все же, «в начале было Слово», – добавила она, помолчав.
Были еще встречи с Исаакяном; он приезжал к нам в Медон под Парижем; бывал и у Лебедевых, где раза два встретился с трогательным, больным Бальмонтом и побратски расцеловался с ним и внимательно и всерьез слушал его, терявшие связность, разбредавшиеся речи. Были еще встречи-воспоминания и встречи-споры. Но мне было бы трудно, пожалуй, невозможно рассказать о них не только теперь, когда нет в живых никого из них – ни Цветаевой, ни Исаакяна, ни Бальмонта, ни Лебедевых, когда и улочка Данфер-Рошро переменила название и облик, но и в те времена, когда все были живы и все было по-прежнему, – потому что в памяти все перекрылось тем ослепительным видением: двух поэтов, двух горцев поэзии – осененных бессмертными крылами Ники Самофракийской.
Строка из стихотворения М. Цветаевой «Писала я на аспидной доске…» (1920). «Ты – уцелеешь на скрижалях» – относится к имени мужа, обозначенному на внутренней стороне обручального кольца.
Елена Усиевич, литературный критик.
«Тучков-четвертый» – Александр Алексеевич Тучков, генерал-майор, погибший в Бородинском сражении.
В других воспоминаниях А. Эфрон эта история излагается иначе.
Цикл обращен к Ю. А. Завадскому.
Средневековый французский фарс.
Из пьесы М. Метерлинка «Синяя птица».
Марина Цветаева. Конец Казановы.
Конверт со стихами Марины Цветаевой.
Гостиница-общежитие, в которой жили Эренбурги по возвращении из Крыма.
А. Г. Вишняк.
Скрябиной.
Так Пастернак обыгрывает название книги Цветаевой «Версты».
Письма.
Пешкова.
«С той же лампою – вплоть! – лампой нищенств, студенчеств, окраин…»
Мне – десять лет!
К. Б. Родзевич.
1960 год.
Франтишек Кубка.
Повесть Честертона.
Студенческий журнал «Своими путями».
Вахтангова.
Волошиным.
«Ариадну».
Нанятая в помощь Марине и ушедшая через неделю!
Моего маленького товарища, Олега.
Рейтлингер.
Бальмонту
Пышно и бесстрастно вянут
Розы нашего румянца.
Лишь камзол теснее стянут.
Голодаем как испанцы.
Ничего не можем даром
Взять – скорее гору сдвинем!
И ко всем гордыням старым —
Голод: новая гордыня.
В вывернутой наизнанку
Мантии Врагов Народа
Утверждаем всей осанкой:
Луковица – и свобода.
Жизни ломовое дышло
Спеси не перешибило
Скакуну. Как бы не вышло
– Луковица – и могила.
– Будет наш ответ у входа
В Рай, под деревцем миндальным:
– Царь! На пиршестве народа
– Голодали – как гидальго!
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу