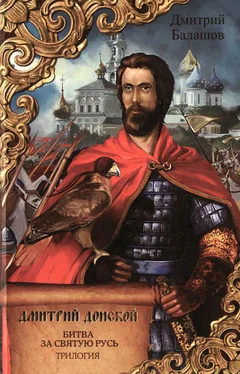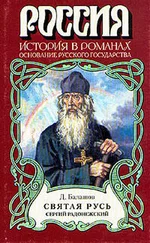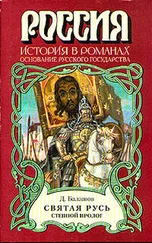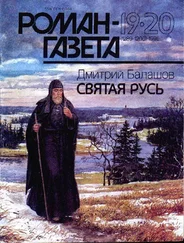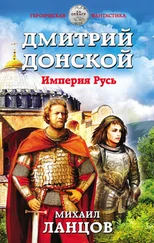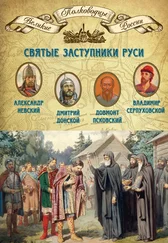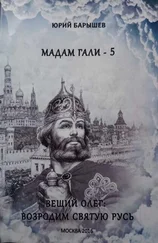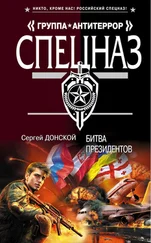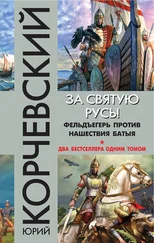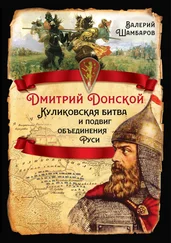Он бродил по улицам, разглядывая красивые терема, толкался в торгу, указывая добытым Машковыми подмастерьям, как лучше растирать краски, а сам, то вечерами, то на самой заре, когда прозрачная синь начинала сквозить и предрассветная мгла легко обнимала яснеющий город, подходил к Спасскому храму Машковых, постигая все более и более, что даже среди сановитых новогородских соборов храм сей получился лучший изо всех, по крайней мере сотворенных в последнем столетии. Яснели, полнились заревым золотом облитые багрецом стены, и одинокий барабан с куполом словно начинал плыть в текучих розовых облаках. Твердыня стен, мерно и мощно восходящая от земли к небесам, треугольные щипцы украшенных врубленными крестами позакомарных завершений теряли вес, начинали, вызывая головное кружение, плыть, струиться и парить в аэре. И Феофан не то что дивился зодчим, сотворившим эдакое чудо, но даже и робел, и недоумевал, почти не в силах понять этого русского волшебства, заставившего петь и плыть охристо-багряный камень храмов, поиначив и переиначив строгую, распластанную и утвержденную недвижно в пространстве гармонию греческих, византийских святынь.
Он уже начинал понимать русичей. Эта текучесть, этот порыв в небеса и открытость миру, не высказываемые словами, входили в него как музыка, и, стоя перед храмом, впитывая в себя его законченную волшебную красоту, он искал, чем и как ответит этой гармонии в своих, уже властно роящихся в голове росписях. И, духовным взором проницая в грядущее, видел, почти видел, и мощных, взволнованных суровостью бытия праотцев, и пророков, и испуганные лица шестикрылых херувимов, и видения Страшного суда, и ряды праведников, и то особое, что наметил он сотворить в каменной каморе храма: святых мучеников, деловитых и упорных, словно сами новгородцы, причудливых столпников и Троицу, Троицу прежде всего! Где будет — где-то внизу — принимающий небесных гостей Авраам, но главное: три ангела, осеняющие крылами тесное и высокое пространство каменной палаты. Три ангела, в лицах коих, в их повязках, в мановении рук, в слегка изнеженной позе правого ангела, эллински возлежащего за столом, будет сквозить — должна сквозить! — древность языческой Эллады, напоившей гиметским медом своим позднейшие истины христианства, ибо оттуда, из тьмы времен, восходит то, что, осиянное светом Логоса, дало торжественные всходы византийской и местной, русской, культуры, что выявилось в огненосном парении духа иноков-исихастов, в ярости народных мятежей, в тяжко-упорном восхождении нынешней Руси к вершинам, предуказанным десницею Господа. Все это будет! И, не сгорев в огне, который лишь краски изографа претворит в темно-багровые, еще более сурово-мрачные, чем то было сотворено Феофаном, дойдет до времен нынешних, пронзит века и века, пусть намеком, пусть обрывками великого красочного рассказа, приобщив и нас к творческому величию пращуров.
ГЛАВА СОРОК ТРЕТЬЯ
Проходила зима. Там, далеко, на Руси, отшумели веселые Святки. Здесь задували метели, колючий и злой ветер леденил лицо. Мамай был непонятен и лжив, похоже почти приняв Вельяминова за княжеского соглядатая. Из Москвы вести доходили смутные. Дядья и брат Микула передавали отай, что Дмитрий гневен, что при дворе силу взяли Акинфичи и что уговорить великого князя сменить гнев на милость не можно никак.
Иван исходил тоскою и гневом, теперь уже все чаще и чаще уединялся с отцом Герасимом, а тот зудел и зудел, все об одном и том же: „Покорись, господине! Отринь гордыню по завету Господа нашего Иисуса Христа!“ Томились слуги. Те тоже только и мечтали воротить в Русь. Фряги плели свои серебряные цепи, опутывая ими Мамая, в Синей Орде осинел Тохтамыш, ставленный далеким и непонятным эмиром из Мавераннахра, Тимуром, и даже то, что розмирье меж Мамаевой Ордою и Москвой все углублялось и углублялось, уже не радовало Ивана. Все шло не так и не туда, как хотел он. И он уже знал твердо, что так и будет, и искал хоть какого выхода или — конца.
В один из февральских дней, когда в ледяном степном ветре уже начинает слышаться близящая весна и солнце щедрыми пригоршнями золота обливает высокие снега по речным излукам, отец Герасим долгой и прочувствованной проповедью пробил, как показалось ему самому, каменную броню, в которую заковал свою душу и ум Вельяминов.
— А ежели гибель?! — яростно вопрошал Иван.
— За земною гибелью, господине, жизнь вечная! А пострадавший тут за гробом соединит себя с праведными душами, их же предел в деснице Господней. Не бойся и гибели, господине, бойся духовной гибели! Тогда уж ничто не спасет и ничто не сохранит тебя ни в том, ни на этом свете!
Читать дальше