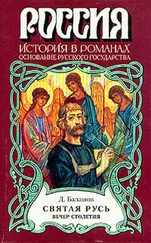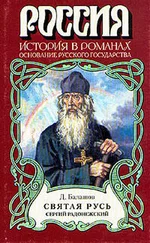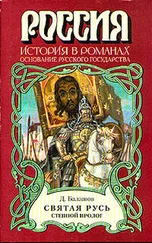Новый Торг, не дождавшись новгородской помочи, склонился-таки к тому, чтобы поклониться Москве. От городской господы приезжали послы во главе с оптовым торговцем Максимом. Внимательноглазый богач, щурясь, озирал стан, войсковую справу, приметил и походный базар, где продавали жителям отобранное у них же добро, покивал чему-то своему.
Упырь, стоя в обнимку с Иваном — намедни мирились, пили хозяйское пиво, хлопали друг друга по плечам, — фыркнув, пробормотал вполголоса:
— Вот бы с такого-то шубу снять! Весь поход разом оправдаешь!
Шуба на Максиме, седых бобров, была и верно хороша. Хозяин словно плыл в ней, цепляя подолом снег. Только на шагу слегка выглядывали носы узорных, новгородской работы, цветных чеботов да мерял убитую копытами снежную дорогу тяжелый, резного рыбьего зуба, посох в руках купца.
Скоро в воеводскую избу, соскочив с коня, прошествовал и сам Владимир Андреич. Крытый персидским шелком опашень, распахиваясь, являл украшенную серебром кольчатую броню. Сабля на золотой перевязи, в ножнах, украшенных смарагдами и лалами, почти волочилась по земи. Твердо ступая зелеными изузоренными сапогами с загнутыми носами, взошел на крыльцо и уже на крыльце обернулся, вовсе распахнув опашень, большой, широкий, сердитый и торжествующий. Дрогнув усом, сведя брови, соколом оглядел улицу, игольчато ощетиненную копьями московской сторожи; склонясь, унырнул в избу, где, верно, уже начался торг москвичей с новоторжцами и городские послы спорят сейчас о раскладе даней, убытках, вирах и прочем, сопровождающем сдачу городов.
Иван развалисто прошелся вдоль строя своих ратных, кое-кого, ругнув, подтянул, тут же укорив:
— Не у жонкиного подола стоишь! Што енти подумают? Не о тебе, раззява, о войске князя великого! Смекнул? То-то! Копья ровней, други, копья ровней!
Выстроил, сам залюбовался молодцами.
Стояли часа три, а то и четыре, вдосталь поистомились в строю. Наконец из вновь отверстых дверей начали выходить сперва новоторжские послы, потом московские бояре и воеводы. Новоторжцы усаживались в сани.
Владимир Андреич вышел на крыльцо последний. Орлом оглядел своих ратных, возгласил громко:
— Полон отпустить! Выкуп дают! И коров ентих, што не проданы! — Перекрывая поднявшийся зык, домолвил: — Кажный, чья там ни есть животина, получает по полугривне, не ропщите, други!
— А когда давать будут?! — выкрикнул чей-то молодой голос. (В честность московских воевод и сами московляне не очень верили.)
— А тотчас! — легко отозвался князь Владимир, махнув перстатою рукавицей в сторону базара. — Сам пригляжу!
Ратники начали покидать строй. Скоро за шумом > зыком, обычной в таких случаях бестолочью стали прорезываться ручейки обратного движения. Получившие серебро ратные, наливаясь кровью, крепко, сожалительно крякали, а испуганно-радостные сельчане растаскивали, почти бегом, счастливо вырученную скотину… Разумеется, кроме той, что уже была отогнана в обоз.
Уходили радостные полоняники. Какая-то понасиленная ратными жонка шла и плакала навзрыд, полуслепая от слез, наталкиваясь на прохожих. Не ревела, когда творили с нею стыд, а заплакала сейчас, когда надо было возвращаться в ограбленную избу, к измордованному и злому мужику своему и начинать заново жить, избывая позор, выслушивая несправедливые покоры свекрови и молчаливо принимая тычки и ругань лады своего, вымещающего на жонке свой стыд и бессилие перед вражеским разором…
Март истекал последними днями. Над голубыми озерами полей стоял пронизанный светом молочный, приправленный золотом солнца туман. Возы, груженные добром, тяжело вылезали из проваливающихся под копытами колдобин. Ратные торопились к Пасхе, к разговленью, к домашним пирогам и убоине, к баням и к чистой сряде. Все были мокры, грязны, распарены, ото всех разило овчиной и конским потом, но шли весело — домой! И, к тому, с победою шли, не чая чего худого ни впереди, ни назади. Редкие толковали о том, что так просто все это не окончит и что Господин Великий Новгород еще покажет зубы Москве…
Иван Федоров не думал ни о чем. Ему была одна забота: довести, сохранить коров. Раздобыл корм, поил, с тревогою глядючи, как костляво остреют крестцы умученных животин, как неровен и скорбен их шаг. За мерина такой боязни не было. Тот шел ровно в руках опытного Гаврилы, запряженный коренником. Склоняя тугую шею, легко вытягивал из промоин тяжко груженный воз, и чуялось, дойдет, дотащит без особой натуги. С коровами же было — хоть вези! И когда уже, под самую Пасху (по Москве текло ручьями, дотаивало у заборов, мутные воды уносили последний снег с улиц), почти обезножевшие, отощавшие, с нелепо раздутыми боками, но живые, коровы достигли родимого двора и государыня-мать, вышедшая встречать, строго покачавши головою, оглядывала скотину, едва не зарыдал напоследях, сваливаясь с седла. Довел-таки!
Читать дальше