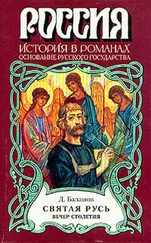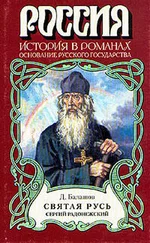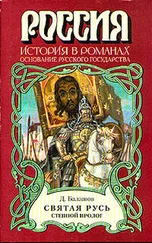ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ
Иван Федоров воротился из похода огрубелый и смурый. Пригнал трех коней, навьюченных добром, испуганного отрока, плохо понимавшего русскую молвь, да мордовскую девку, с которой даже не переспал дорогою, тотчас вручив рабу государыне-матери. Отмывал в бане грязь и пот, пил горячий мед, молчал, посвистывал, задумчиво выходил к огороже, глядя на заснеженное поле и дальний лес, тоже запорошенный снегом.
На деревне то стукнет где кленовое ведро, проскрипит журавль у колодца, то взоржет конь, мыкнет корова в хлеву, временем заливисто и звонко начинают кричать петухи, а то забрешет хрипло, спросонь, дворовый пес — тишина. Вот мордвин, приведенный им, осторожно взглядывая на хозяина, ведет коней к водопою. Вот государыня-мать вышла на крыльцо, смотрит ему в спину, все замечая: и непривычную молчаливость сына, и странный взгляд, коим он проводил сейчас холопа-отрока.
— Вань! — зовет мать.
Он оборачивается, смотрит. На обожженном морозом лице яснеют обрезанные глаза, уже не те, не прежние, не мальчишеские.
— Сыну! — зовет она, и Иван свеся голову делает шаг, другой.
Они вступают в горницу. Она ведет его в ту, чистую, свою половину. На сердце сейчас такой глубокий, такой полный покой: вернулся, жив! И будут еще и еще походы, и та уже пошла сыну стезя, и будет она ночами не спать, молить Господа… Но все это потом! В материной горнице чистота, пахнет воском, мятою. Дочерь засовывает любопытный нос, стреляет глазами на Ивана, после похода значительно выросшего в ее глазах.
— Ты поди! — машет ей рукою Наталья.
— Почто суров таково, сыне? Присядь! Дай я тебе в голове поищу. Привались сюда… — Она перебирает родные русые волосы и слышит вдруг, что плечи у отрока вздрагивают. — Почто ты? Али недужен чем?
— Мамо! Я ребенка убил, — глухо говорит он, не подымая головы с материных теплых колен. — Отрока. И не на бою вовсе. Гнали. Я ево ткнул и не мыслил убивать совсем, а так, в горячке… Ну и… а опосле смотрю: падает и смотрит так, словно не понимает — зачем? Я и с коня соскочил, приподнял, а уж у него глаза поволокою покрыло, и лицо чистое-чистое, девичье, знашь, как у деревенских… Ну и… муторно мне стало! Как ни помыслю о чем, все отрок тот пред глазами стоит!
— Война, сыне! — нерешительно отвечает она, понимая, что и оправдать, утешить сына сейчас — грех. Пусть мучается, пусть ведает заповедь „не убий“.
— А батя тоже? — помолчав, спрашивает он.
— Батя твой был воин! — отвечает она, бережно перебирая сыновьи волосы и выискивая насекомых, привезенных им из похода со всем прочим добром. — Воину без того нельзя!
— Мальчонку… Отрока малого! — шепчет сын.
— И то бывает, — строго говорит мать. — Молись перед сном пуще! Да панихиду закажи в церкви. Крещеный был отрок-то?
— Имени и того не ведаю! — возражает сын. — А крест навроде был на ем. Не разглядывал, не до того было.
— Схоронил?
— И того не содеял! Нас на коней — да в путь. Мало и постояли в деревенке той!
Она гладит его по волосам, думает. Отвечает, вздохнув:
— Казнись, сын! Христос заповедал человеку добро, а не зло творити! — И сама, пожалев, переводит на другое: — Дак, баешь, Василий Услюмов был у изографа в холопах?
— Ну! — отвечает Иван.
— Лутоне, как поедешь, скажи! Обрадует и тому, что был жив. Может, и ныне не убили, а в полон увели?
Робкая, но все же надежда теплится в ее голосе. Теперь все, что было связано с покойным Никитой, дорого ей несказанно, и Услюмовы дети не чужие, свои, почитай… Дочерь надо замуж отдать, сына женить, внуков вырастить, тогда только и помирать можно!
— Трудно тебе, после того, на холопа нашего смотреть? — прошает государыня-мать, угадавши мучения сына. — Давай продадим!
— Что ты, мамо! — путается он. — Да без холопа в доме маета одна, да и не думаю я того, блазнь одна, мара! Прости, мама, что растревожил тебя!
Темнеет. Ярче горит лампада. Они сидят вдвоем, сумерничают, не зажигая огня. Может, и вся награда матери за вечный подвиг ее, за вечный материнский труд — вот так, изредка, молча, посидеть рядом с сыном, а затем вновь и вновь провожать на росстанях, видя, как с каждым разом все дальше и дальше уходит он от тебя.
ГЛАВА СОРОКОВАЯ
Только к зиме измученный нижегородский полон добрел до главного татарского юрта в излучине Дона. Брели раздетые, разутые, голодные, брели и гибли в пути. Отчаянные головы кидались под сабли. Счастливчики, вырываясь из смертных рядов, хоронились в чащобах по берегам степных речушек, питаясь кореньями съедобных трав и падалью, пробирались назад, в Русь, и, в свой черед, гибли в пути… А то прибивались к разбойным ватагам бродников и тогда, вскоре, начинали с дубинами выходить на торговые пути, без милости резать и грабить проезжих гостей торговых, убивать пасущийся скот, зорить, не разбираючи, редкие поселения татар-землепашцев и русичей, одичав до того, что и человечиной не брезговали уже в черные для себя дни, пили, приучая себя к жестокости, кровь, по страшной примете разбойничьей обязательно убивали, выходя на дело, первого встречного, будь то хоть купец, хоть странник убогий или даже старуха странница, бредущая к киевским святыням ради взятого на себя духовного обета… Тогда-то и сложилась мрачная шутка ватажная, когда, зарезав старуху, разбойник жалится атаману: „Зри убил! Все-то и было у старой две полушки!“ „Дурак! — отвечает атаман. — Двести душ зарежешь, вот те и рупь!“
Читать дальше