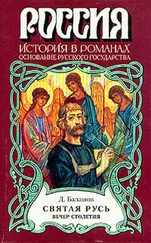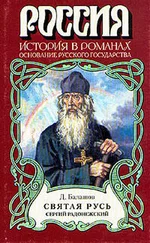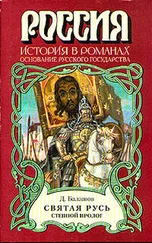— Не пущу, сказал! — сердито выговаривает Феофан. — Работу творим князю самому! Велено церковь окончить! Понимай! Владыке Дионисию что скажу? Подпишем собор, вольная тебе, дурья голова! Досыти рек!
— Да-а… — с тоской тянет Васька, взглядывая в яркие платы света из высоких окон, и как под солнцем возгорает, начинает играть живопись стен, так ему — звон оружья, ржанье и гомон ратей. „Татар бить идут! Побьют ить без меня!“ — ярится и плачется в душе Василий и вновь, уже яростно, перетирает в каменной чаше желтую охру, уже ставшую похожей на тонкую подгорелую муку или пыль. Желт пест, руки желты, в желтой осыпи передник, в желтых и лиловых полосах лицо; сейчас посадским девкам покажись — шарахнут посторонь!
— Сам великий князь прибывает! — тянет Васька.
— Не прибыл еще! — строго отвергает Феофан. — Завтра! А сево дни сию стену надо кончать! Засохнет раствор!
Стену, этот кусок, штукатурили и выглаживали сами. И ежели ее не расписать в один день, до ночи, то вся работа пойдет прахом: писать охрою можно токмо по сырой штукатурке, тогда краску схватывает намертво, и после уже не смыть и не поиначить. Пото у изографа и рука должна быть не менее точной, чем у серебряных дел мастера.
Феофан щурится (он работает на глаз, без оттиска, и русские нижегородские мастера почасту приходят любовать его работой), отступает, потом единым бегучим очерком означает образ святого воина, голенастого, высокого, стойно самому Феофану, задерживает кисть, смотрит и вот, смолкнув и хищно устремив взор, начинает писать. Тут его лучше не трогай и молчи, не то ударить может, только подавай стремглав потребное. Грек отшвыривает в руки подмастерья кисть, хватает другую, на желтовато-белой стене вырастает очерк лица, руки, намек чешуйчатой брони. Бегучей и изломанной линией, как-то враз очерченной, является плащ, и вот единым взмахом долгой кисти — копье в руках у воина. Васька смотрит, забыв все обиды, все окрики и тычки. Руки только не переставая трут и трут. Перед ним в который раз возникает чудо… Вечером, при последних багряных взорах гаснущего солнца, Грек наложит последние пробела, и разом лик воина заиграет и оживет, а Феофан, понурив просторные плечи, ссутулится, безвольно уронив кисть. И будет долго смотреть, цепко и зло, пока наконец, разгладив морщины чела, тряхнет гривой долгих спутанных волос и бросит через плечо: „Пошли!“ Значит, получилось и мастер доволен собой. И они пойдут по кривым улочкам Нижнего в свою, предоставленную изографу епископом Дионисием, избу на сбеге высокого берега, где соседская баба уже истопила печь, сотворила уху из волжских судаков, испекла блины и где мастер, размягченный едою и удачной работой, будет сказывать ему про высокое, трудно понимаемое или вспоминать Константинополь, который Васька теперь, не побывавши там ни разу, видит перед собою, будто приснившийся во сне. Потом сон. Изограф — монах не монах, а на женок не смотрит совсем, весь устремлен к своему деланию, и, когда Васька изредка исчезает из дому и словно кот пробирается к простывшей постели под утро, изограф сердито ворочается на ложе, иногда ворчит: „Спать надобно в ночь!“ Но, впрочем, не ругает зело, понимая телесную истому молодого помощника.
Оба привыкли друг к другу, и, как знать, так ли уже хочет Васька уйти от Грека в неведомую, разоренную литвинами прошлую свою жизнь? Жив ли брат, жив ли знатный дядя? Примут ли его, узнают ли родичи? И все-таки родина, дом, хочется побывать… Хоть бы у крапивы, что буйно растет на пожоге, постоять! Уронить слезу, обвести взглядом родимое и уже чужое погорелое место, выросшие дерева, обмелевший пруд, узреть иных людей, из коих едва какая старуха и припомнит: „Да, жили, жили такие, до первой литовщины еще“. Хоть так! Все-таки корень свой, свои когдатошние хоромы… А может, и брат и дядя живы? То-то будет рассказов, пиров, радости! Думает так — и страшится. А ну как строгий дядя и тетка-боярыня не примут, не пустят на порог? На то, что брат, Лутоня, жив, у Василия было мало надежды.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ
Назавтра в город вступил с полками сам великий князь. Феофан не отпустил Ваську к городским воротам, только уж когда с песнями шли улицею полки, выпустил и сам вышел на паперть, но скоро вновь загнал внутрь: „Дело стоит!“
С заранья мастера сотворили второй кусок обмазки, и теперь надобно было опять кончать-успевать до вечера, пока не просох раствор. (Пото и работа сия по-фряжски зовется „фреско“ — „свежая“.)
Читать дальше