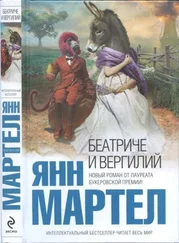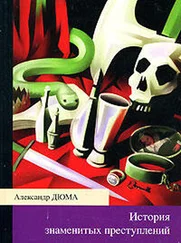Луиза, видя выражение ненависти в лице старика, испугалась, что она окончательно повредила судьбе мужа. Поэтому она с осторожностью спросила его самым кротким голосом:
– И вас так оскорбляют, отец мой, поступки вашего сына, что даже надежда на заслуженное прощение не может иметь места в вашем отеческом сердце?
– Я предоставляю вам самим судить, я вам напомню только вещь, которая известна всему свету, и потому избавляет меня от необходимости рассказывать ее. Кто подвинул Олимпию написать папе эту предательскую записку, за которую у меня вырвали из моих объятий мою погибшую дочь и нанесли неизгладимую рану моему сердцу и вред моему доброму имени? – Джакомо. – Кто устроил, чтоб этот гнусный пасквиль попал в руки его святейшества? – Джакомо. – Кто, распростершись у ног наместника Христова, умолял его со слезами о моей смерти? Кто? – Может быть враг мой? чей-нибудь сын, у которого я умертвил отца? – Нет, Джакомо, человек, обязанный мне жизнью…
– О, отец мой, успокойтесь ради Бога! Может быть вам наговорили о Джакомо больше и хуже, чем он в самом деле говорил и делал. Вы с вашим немалым опытом знаете обыкновение слуг говорить дурно о тех, которые впали в немилость у их господина, Но если бы даже проступки сына вашего были действительно так дурны, как вы говорите, то вспомните только, что он ваша кровь, – вспомните, что Иисус Христос простил тех, которые распяли его, потому что они не ведали, что творили…
– Но Джакомо слишком хорошо ведает, что творит. Его нечестие возрастает с каждым днем: – он ежечасно стремятся к тому, чтоб отнять у меня мое доброе имя и этот последний остаток жизни… В нетерпении своем, сын мой удивляется медлительности моей смерти, у которой от избытка его желаний должны бы уже вырасти крылья. – Слушай, дочь моя, и ты простишь меня за то, что я больше не в силах удержать свое негодование. Прошу тебя об одном: пусть эти фразы останутся между Богом, мною и тобою; особенно, чтоб внуки мои никогда этого не знали, чтоб они не научились ненавидеть отца своего. – Несколько дней назад, он пришел сюда развращать Беатриче и Бернардино, бессовестно уверяя их, что я был причиною смерти Виргилия; он не знает, что бедный ребенок, к величайшему моему и своему несчастию, был поражен неизлечимою чахоткою. Но это еще не все: внизу, в церкви святого Фомы, воздвигнутой благочестием наших предков и обновленной мною, в то время, когда служилась торжественная панихида по душе покойного ребенка, превратив катафалк в кафедру нечестия, без всякого уважения к святости места, к священным алтарям, к церковному обряду, к Богу, невидимо здесь присутствовавшему, он злоумышлял вместе с другими погибшими детьми моими и женою на мою жизнь… Ты содрогаешься, добрая Луиза? Удержи свой ужас, тебе придется содрогаться гораздо больше от того, что ты еще услышишь. Когда я, несчастный отец! наклонился, рыдая над телом этого ангельского создания, отозванного преждевременно к лучшей жизни, не знаю, какое новое безумие или неслыханное бешенство овладело ими… они опрокинули на меня покойника… принялись бить меня… изранили… Посмотри сама, дочь моя; вот здесь на месте видны следы их преступного посягательства…
Он остановился, как подавленный ужасным воспоминанием; потом со слезами в голосе продолжал говорить:
– Теперь, когда ко мне будут подходить мои дети, в особенности Джакомо, знаешь ли, что мне остаётся делать? Пробовать, хорошо ли мне застегнули кольчугу, ощупывать, не забыл ли я кинжала, класть между им и мною верную собаку, которая защищала бы мою жизнь от его злобы… Да, собаку, – с тех пор, как моя собственная кровь враждует со мною… Не доверяя человеческой породе, лучше мне искать защиты между животными – у меня даже была собака, испытанной верности… они и ее убили… зловещее предзнаменование для отца, которому готовят то же самое! Уже давно не покидает меня мысль, родившаяся у моего страдальческого изголовья, и преследует меня неотступно: должен ли я допустить их совершить преступление, или, положив своими собственными руками конец моей злополучной жизни, избавить их от позора наказания, а себя от невыносимой пытки жить? О, Боже! Как тяжела эта необходимость погубить свою или их душу!
При этих словах он склонил голову, и глаза его остановились на письме из Испании, которое извещало его о неминуемой смерти Филиппа II, который более всех других королей возбуждал его удивление, и он подумал в глубине души: – счастлив он, что прежде смерти мог задушить своего сына, и за то получил благословение святой матери церкви!
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу