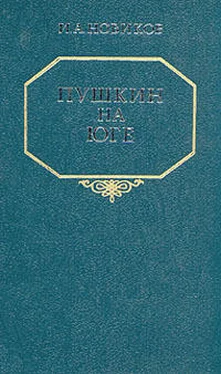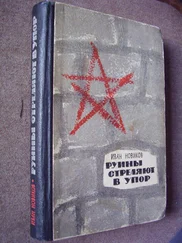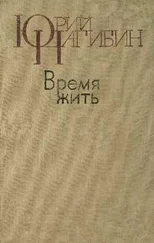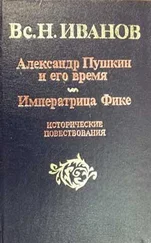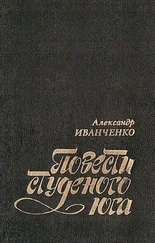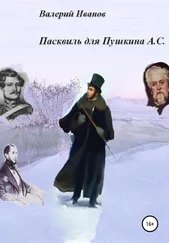Полифем в своей роли был неподражаем. Он очень точно все разузнав, как, по преданию, расположены были оковы, редуты, показывал и называл, как если бы видел все самолично.
— А короля шведского, господа мои, принял я даже с первого глаза за простого слугу. Яички я приносил, молочко, творожок. Так он выйдет, бывало, и каждое яичко — на свет!
Нельзя было не подарить престарелому «Искре», как когда–то в Крыму, ассигнацию за его на этот раз уже не мифологические, а исторические «воспоминания»; к тому ж Полифем для них потрудился, а это ему принадлежит мудрое изречение: «всякий труд должен быть благодарен»… Пушкину вспомнилось, между прочим, из рассказов Александра Раевского, что первый словесный донос на Мазепу Кочубей отправил Пегру через бродячего монаха Никанора… Как Русь еще не устоялась, как и доселе переливается с места на место, точно сама себя ищет в этих бродячих Полифемах и Лариных!
На обратном пути снова пришлось заночевать в Тирасполе. Иван Петрович Липранди уехал в Кишинев, а брат его, Павел Петрович, на другой день утром сообщил Пушкину, что Сабанеев разрешил ему повидаться с Владимиром Федосеевичем Раевским. Это известие было для Александра совсем неожиданным. Словно прочли его мысли. Он сюда ехал и думал: брата родного не допустили, а ему уже нечего и думать… И вдруг какой неожиданный оборот! Он осведомился об условиях свидания. Условия обычные: в присутствии коменданта или дежурного. Пушкин, немного помедлив, наотрез отказался, сказав, что спешит в Одессу к определенному часу. Это не было правдой, это было первое пришедшее в голову объяснение.
Пушкин принял это решение быстро, но оно было продиктовано не какою–либо одной единственной мыслью.
С какою бы радостью он повидался с Владимиром Федосеевичем! У него накопилось так много больных, острых раздумий, которыми если и поделиться, так именно с ним… Но разве же это возможно при посторонних? Это и было первою в нем вспыхнувшей мыслью.
Ну хорошо, а если бы даже и без посторонних? Что же, прочесть ему: «Паситесь, мирные народы»? Да ведь это — убить последнюю, хотя бы только «упрямую» бодрость. А делать лишь вид, что все идет не так–то уж плохо, — да разве это возможно? Да это просто и недостойно.
И другие еще, уже более житейские мысли переплелись в ту же минуту с этими основными, вырывавшимися из глубины. Он не забыл, что ведь не кто иной, как именно Павел Петрович Липранди производил обыск и арестовал Раевского в Кишиневе. Это всегда оставалось для него загадкой. С братом его, с Иваном Петровичем, несмотря на всю близость их отношений, он об этом никогда не поминал и для себя остановился на мысли, что младший Липранди просто исполнял приказание Сабанеева, которому, в свою очередь, приказали; все это называется коротко: служба! И, кроме того, Павел Петрович, как человек, был ему просто очень приятен…
Но когда он сообщил о возможности этого свиданья Пушкину и о том, что его разрешил сам Сабанеев, безо всякой притом просьбы, у Александра вспыхнули самые неприятные подозрения и по отношению к Сабанееву… А что, если это подстроено и чем–нибудь может Раевскому повредить? Раевскому, а может быть… А может быть, это ловушка и для него самого? И сам Воронцов так легко его отпустил!
И ему захотелось бежать из этого места, где все так неясно и где все обернулось так подозрительно.
Пушкин действительно знал теперь хорошо все «муравьиные ходы», как называл это Липранди, — все ухищрения и подвохи доносительского свойства, главною душою которых был Вахтен, начальник сабанеевского штаба. Но… надобно ли было со всем этим считаться?
Все эти мысли, одна пересекая другую, определили решение Пушкина, но главным было сознание того, что он не мог принести с собой подлинной радости, веры, подъема…
И все же мысль о том, что он как бы бежал от опасности, преследовала его до самой Одессы. Ему было не по себе. «Называл Орестом — и даже не повидался! Пестелю, может быть, надо себя беречь, а мне для чего?»
Он и позже долго не мог избавиться от этого горького ощущения, и, однако, в то же самое время он теперь уже знал свой жизненный путь и не томился более так, как это было в начале его пребывания на юге. Он постепенно пришел к одной мысли и в ней утвердился: как и Владимир Раевский, Пестель, Орлов, как при жизни Охотников вел, — так же и он ведет ту же войну. И себя также должен, быть может, беречь.
Но где ж его голос? Кто его слышит в пустыне?
И вот один случай смыл эту горечь.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу