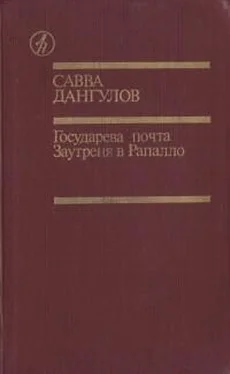— А как он встретил депешу? — Чичерин не мог не задать этого вопроса, говоря «он», Георгий Васильевич имел в виду все то же лицо, которому депеша посылалась. — Не отверг, не возразил, не выразил возмущения?
— А вот мы сейчас спросим Александра Христофоровича, он рядом. Впрочем, он вам скажет сам…
— Это я, Георгий Васильевич, Даниелов, — видно, Александр Христофорович не ожидал, что трубка будет передана ему, он будто на миг задохнулся, от неожиданности, разумеется. — Владимир Ильич сказал: «Ну что ж, Буллит так Буллит — подавайте нам Буллита!..»
— Значит, подавайте Буллита? — Даниелов мигом поправил Чичерину настроение. — Спасибо, Александр Христофорович…
Он ехал на вокзал улицами своей юности, и все было, как четверть века назад. Тот же камень домов, напитанный весенним полуночьем и поэтому ставший еще более темным, тот же отсвет черной воды в каналах, будто окаменевшей, с виду непроточной, та же синь куполов, казалось, не потускневшая вопреки немилосердному солнцу и ветру времени. Людей, что речную воду, унесло к большому морю, что зовется небытием, камни же стоят, а вместе с ними и город, истинно вечный город… Он чувствовал, как вместе с волной воспоминаний, полонившей его, накатывается волна печали неизбывной… Он вспомнил разговор с Москвой и подумал о том, что его ожидают дни, у которых своя неодолимая судьба, своя дорога, и над ними слабым человеческим силам возобладать трудно…
Цветов встревожился: как–то встретят его Москва, отчие Сокольники? Необъяснимы причуды памяти, вспомнилась аллея в Сокольниках, как она возникла на полотне Левитана, нет, не лесная, а именно парковая, свежая хвоя на обочине, ярко–зеленая, женщина в белом платье и в широкополой шляпе, которую, как говорят, вписал в пейзаж друг художника. Что–то было в облике молодой женщины от гордой красоты девичества, дочь мелкопоместного дворянина, земского врача, а может, землемера, бестужевка–курсистка, учительница русской словесности или кассирша с Московско — Рязанской дороги — главный вокзал этой дороги рядом…
Сергей взял извозчика и поехал в Сокольники. Он просил извозчика не сворачивать с магистралрг, оставить в стороне Матросскую тишину и Стромынку и, взяв налево, держать к Сокольническому валу. Тут были коренные Сокольники, место сокольнического леса, корабельных сосен, березовых рощ и рощиц, которые белыми островами, белыми и в сравнении с мартовским снегом, были точно встроены в пределы сокольнического бора.
Пять лет, минувшие со времени отъезда из Москвы, не застили память туманом, да и отчий дом с островерхой крышей, столь необычной для Москвы и ее окраин, выплыл молодому Цветову навстречу… Сергей отпустил извозчика и пошел к дому. Он без труда отбросил крючок калитки и вошел во двор. Ночью припорошило, и на свежем снегу были видны следы валенок, заметно стоптанных. Не Герман ли? Если Герман, то чего так рано? Не в банк же он в валенках, а может быть, нынче можно в валенках и в банк?
Скрипел снег с той звонкой отчетливостью, какая характерна здесь для мартовского утра. Он остановил
взгляд на березе, вставшей перед домом, за эти годы она одна, пожалуй, набралась праздничности. Окна на втором этаже зашторила тьма, все окна, но внизу на кухне пробивался свет, видно, оставшиеся домочадцы собрались к завтраку. Он тронул входную дверь, она поддалась. Он вошел в коридор, пахло жареным луком, чуть подгорелым: не иначе Герман, уходя на работу, ел жареную картошку, давняя страсть. Сергей тронул вторую дверь, она отворилась с той же легкостью, что и первая. Он глянул на кухню. В печи тлели поленья, чайник был отставлен, в хлебнице лежала аккуратная стопка житного, на опрокинутой тарелке поместилась сковорода с недоеденной картошкой — Герман явно спешил… Он обернулся–ни единый звук не выдавал того, что в доме кто–то есть. Он хотел окликнуть сестру, но остановил себя. Пошел наверх. Дерево, из которого была собрана лестница, рассохлось, на каждый его шаг лестница отвечала вздохом. Видно, Лариса проводила брата и, вернувшись к себе, легла у теплой печи (теплая стеночка была только у нее) и уснула. Он вдруг заметил, что лестница показалась ему крутой, много круче, чем прежде. Его дыхание родило облако пара — в доме было холодно, по всему, за ночь большая печь остыла, а тепла кухонной было недостаточно. Да и окна, что сейчас были доступны глазу, застила наледь.
Дверь в Ларисину светелку была распахнута. Сестра в самом деле спала. Он увидел ее и смешался — господи, что могут сделать с девочкой пять лет. На оттоманке, что была придвинута к теплой стене, разбросав на подушке темно–русые волосы, спала женщина. Это был непробудный утренний сон, она спала в охотку, лицо ее тронул румянец, сейчас ее можно было назвать даже красивой, что прежде и не предполагалось. Сколько он помнит сестру, ее мучила желтуха, лицо ее прежде было серо–зеленым, даже синюшным, этой синьки неразмываемой набиралось вдоволь и в глазницы. Куда все это делось?.. Нет, она и в самом деле преобразилась, однако что способствовало преображению, которому были не страшны ни ненастье бедовых российских перемен, ни голод?.. Не девичество ли?
Читать дальше