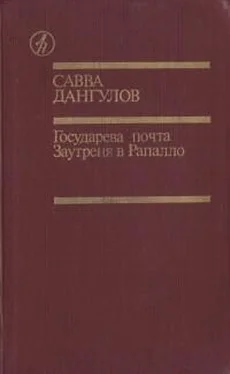Точно не было трудных вахт и бессонного санта–маргеритского бдения: черный фрак, безупречно сшитый лучшим наркоминдельским портным в самый канун отъезда в Геную, фрак, надетый едва ли не впервые, был очень хорош на Чичерине — оказывается, годы жестокого житья–бытья в лондонских флигелях и полудачах не отняли у Георгия Васильевича умения носить парадное платье.
А как итальянский суверен?
Будто две недели труднейшей генуэзской маеты принял на свои плечи он и только он — монарх смотрел устало. Его голос воспринял эту усталость, когда вего дрожащие ладони лег лист веленевой бумаги с текстом речи, и король произнес без видимой охоты:
— Дамы и господа…
Праздный писака, набивший руку на сочинении речей монарха, и в этот раз не дал себе труда вложить в уста суверена хотя бы единое живое слово, не дал себе труда, шельма! Все та же тягомотина насчет солидарности держав Согласия, повергших ниц агрессора, и готовности человечества в ближайшие сто лет петь хвалу доблестной Антанте. Короче, всемилостивейший монарх хотел дать понять всем, кто еще не понял, что именно эти слова, вызванные к жизни скучающим пером придворного писаки, жаждут услышать люди.
А Чичерин, занявший свое место за монаршим столом, внимательно и печально смотрел на британского делегата, сидящего напротив. «Что будем делать, почтенный делегат? — точно спрашивал он валлийца. — Как вам видится завтрашний день наших отношений и есть ли он у нас? И что сулит нам грядущее? Легче нам будет или труднее? Да неужто труднее, коли в нашем ранце рапалльский жезл?»
Чичерин просил меня быть вместе с Воровским в его поездке в порт Генуи, где заканчивалась погрузка итальянского судна, уходящего в Одессу, — наши друзья не теряли надежды, что груз семян, которые они закупили в Италии, еще поспеет к севу.
Мы прибыли на судно, когда погрузка была в са-
мом разгаре; по совету капитана мы обошли судно,
повидав едва ли не каждого моряка, успев сказать
ему и слово благодарности и слово напутствия — пе-
ред отплытием судна в Россию это было более чем
уместно. *
Когда мы сошли с судна, был уже поздний вечер, безветренный, теплый и в такой мере темный, что дорога к порту, где дожидалась нас машина, угадывалась по ударам прибрежной волны да едва приметным огням впереди. Но, странное дело, это как–то не беспокоило нас — беседа завладела нами.
Если быть откровенным, то я ждал этой минуты — мне казалось, что нет более подходящего собеседника, чтобы рассеять мои сомнения, чем Вацлав Вацла–вович. Не скажу, чтобы я осторожно подбирался к сути — с таким человеком, как мой собеседник, можно было говорить напрямик:
— Не предполагаете ли вы, что дипломатию сближает с искусством не только то, что ее сутью является душа человека, а братьями кровными — весь круг гуманитариев, не только это?
— А что еще? — спросил Воровский, остановившись: как мне казалось, первой же фразой я припечатал его к прибрежному песку, который мы сейчас преодолевали во тьме,
— А вот что, Вацлав Вацлавович: подобно художнику, композитору, может быть даже писателю, дипломат единствен и суверенен, все достоинства, как, впрочем, все недостатки в нем самом — именно его одного жизнь склоняет к единоборству со всеми злыми силами мира, и он принимает этот бой, одерживая или не одерживая победу, так?
— Пожалуй, так… — последовал ответ Воровского.
— Но тогда что есть Генуя и каково место в ней храброго одиночки? — спросил я.
Воровский стоял в двух шагах от меня, но был едва видим — когда мой спутник умолкал, казалось, и он смыкался с ночью и исчезал. Время от времени ветер менялся и точно отнимал дыхание моря — в такую минуту было желание крикнуть.
— Я все–таки считаю, что сила дипломатии в силе личности дипломата, именно личности, — произнес он, точно воспользовавшись наступившей тишиной. — Всех достоинств человека, образующих личность, и прежде всего воли, интеллекта… Должно быть убеждение, что человек этот возьмет верх, какие бы дьяволы ни шли на него войной! Если искать сравнения в природе, то надо говорить об орле, чья сила в обретенной высоте. Ну что ж, и это верно… А как Генуя, коллективный разум Генуи?
— Да, как коллективный ум и, пожалуй, коллективная воля Генуи? — повторил я вопрос Воровского.
— Да разве это опровергает сказанное? — Он сдвинулся с места, и вновь я услышал гудящее дыхание моря — оно было могуче–торжественным, это дыхание, и стойким. — Поверьте мне, Николай Андреевич, сила этого коллективного ума в достоинствах личностей, образующих коллектив. Вы помните этот красинский поход в логово зверя — я говорю о поездке к Люден–дорфу? Вот она, единственность человеческого поступка, и вот она, суверенность!.. Человек — крепость? Именно. И тем более, когда речь идет о дипломате.
Читать дальше